В том году зима пришла рано, будто хотела наверстать упущенное. Я впервые за много месяцев позволила себе не спешить: осталась наедине с окном, с белыми крышами, с чашкой, из которой поднимался пар.
На столе лежала карта клиента — мальчика двенадцати лет, с диагнозом "тревожное расстройство сна". Обычно я читаю такие папки бегло: жалобы родителей, школьные отчёты, краткие записи предыдущих специалистов. Но здесь взгляд замер на первой строке.
Фёдор Андреевич Полозов.
Фамилия. Та самая.
Я откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Иногда прошлое возвращается не шумом, а одиночным, ясным словом.
Фёдор Полозов. Полозов-Федя. Полозка. Полоз. Пол.
Сколько раз я писала это имя на полях тетрадей? Синей ручкой. С завитушками. С точкой над «ё», выведенной сердечком. Письма — сложенные вчетверо, будто тайна нуждается в форме. Я прятала их в его пенал, в карман куртки, в библиотечную книгу, которую он читал. Или не читал.
Он ни разу не ответил. Даже не намекнул, что заметил. Я тогда решила: гордый. Или равнодушный. Или не умеет.
И теперь — он. Отец моего нового пациента.
На первую встречу он привёл мальчика сам. Был в сером пальто, чуть взъерошенный, с глазами, в которых кто-то когда-то оставил осень и забыл забрать. Не изменился. Только время проложило едва заметные морщины, как трещинки на старом стекле: не мешают смотреть, но заставляют видеть иначе.
Он не узнал меня.
— Добрый день, — сказал, чуть наклонив голову. — Мы записаны на пятнадцать. Фёдор и Матвей Полозовы.
— Здравствуйте, — я улыбнулась. — Проходите.
Матвей оказался тихим. В глазах — недоверие, в голосе — напряжение. Он боялся темноты, и не как дети, что ждут монстров, а как человек, который знает, что за ней — одиночество. Я слушала его, и всё больше ловила интонации — те же, что были у его отца когда-то. Когда он, двенадцатилетний, сидел на последней парте и смотрел в окно, будто там ответы, которых нет в учебниках.
После сессии Фёдор подошёл к столу.
— Спасибо вам. Матвею трудно... После развода он вообще почти перестал говорить.
— Это пройдёт, — мягко сказала я. — Главное, чтобы кто-то слушал, даже если он молчит.
Он кивнул. Улыбнулся неловко. И снова ушёл, не узнав.
Встречи повторялись. Раз в неделю. Иногда — два. Он стал оставаться чуть дольше. Спрашивал, как идут дела, как я вижу прогресс. Я говорила — и удивлялась, как легко с ним говорить. Хотя когда-то молчание между нами было толщиной в школьный дневник.
— Вы с сыном очень похожи, — сказала я однажды. — Только он молчит больше.
— Я в его возрасте тоже мало говорил, — признался он. — Но внутри всё кипело. Просто никто не спрашивал.
Я посмотрела на него внимательно. Он говорил не обо мне. Но про меня.
Вечером я открыла ящик письменного стола. Там, под пачкой бумаг и канцелярии, лежал старый школьный блокнот. Тот самый. С записями. С письмами. Я развернула одно.
"Ты, наверное, даже не заметил, что я смотрю на тебя. Но ты улыбаешься, когда читаешь, и мне хочется стать страницей в твоей книге".
Я сжала бумагу в руке и отпустила. Не больно. Просто странно.
Через месяц Матвей стал смеяться. Потом — проситься к отцу, обнимать его при прощании. Однажды он сказал:
— Пап, а у тёти Иры, кажется, доброе лицо. Как у мамы на фото, только свежее.
Фёдор засмеялся. А потом посмотрел на меня. Долго. В первый раз — по-настоящему. Как будто поверх всех лет, и несказанных слов, и неотправленных признаний.
— Вы не учились в тридцать первой школе? — спросил он, будто случайно.
Я кивнула.
Он молчал несколько секунд, будто вспомнить — это труднее, чем узнать.
— Был такой случай… Письма. Кто-то прятал мне в пенал письма. Я так и не знал, кто это.
— Кто-то, — повторила я. — Да. Была такая.
Он не сказал ничего. Только медленно улыбнулся. И вдруг добавил:
— Тогда ты была тише. Но — слышнее.
После этого он стал приходить один. Иногда — с термосом. Иногда — с книгой. Мы не говорили о прошлом. Только о погоде. О Матвее. О том, как сложно сейчас детям. И взрослым.
Но в каждом разговоре было что-то… осторожное. Как будто мы оба боялись сделать шаг. Или — боялись сделать его зря.
Однажды он задержался.
— Ты всегда знала, кем хочешь быть?
— Нет. Просто однажды я поняла, кем больше не хочу. Не быть собой — оказалось страшнее.
Он вздохнул. Посмотрел в окно. Снег снова падал — тихо, упрямо.
— Я тогда всё читал. Даже то, что не понимал. Но эти письма… Они были самыми живыми. Только я думал, что это шутка.
— Почему?
— Потому что ты была... слишком настоящей. А я — слишком неуверенным.
— А теперь?
Он замолчал. Потом посмотрел прямо:
— Теперь — хочу знать, как тебя зовут.
Я улыбнулась.
— Ира. Но ты уже знаешь это. Просто боялся назвать.
Он сделал шаг вперёд. Тихо. Почти незаметно. Как будто подходил не ко мне, а к себе, прежнему.
— Можно я скажу? Просто один раз.
— Скажи.
— Ира. Ты. Ты... такая, какой я тебя запомнил. Только больше.
Это была не любовь с первого взгляда. Не вспышка. Не откровение.
Это было — узнавание. Тонкое, как трещина на стекле. Тёплое, как голос, сказавший имя после двадцати лет молчания.
Иногда всё случается не тогда, когда надо. Иногда — именно тогда, когда ты уже умеешь быть на ты.











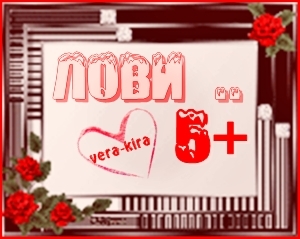




Замечательный рассказ! Тихий... но от этого еще более слышный!
В избранное!