Жил-был дом. Самый обыкновенный, пятиэтажный, с облупившейся краской в подъезде, гудящей батареей и трещинкой в оконной раме. Дом как дом. Но с характером. Потому что в квартире №12 жил домовой.
Он был, как и положено, невидим, но ощущался. Любил сидеть на трубе за холодильником и слушать, как кто-то на кухне режет яблоко — чик-чик-чик, — или как капает чайник, пока не вскипит. Особенно он любил кашу по утрам: не потому что ел её — нет. А потому что это был знак — в доме ещё тепло.
Домовой знал всех: папу, маму, сына, дочку. Он чувствовал их настроение, знал, кто проспал, кто сегодня встал не с той ноги, а кто подумывает не возвращаться домой после работы.
А однажды всё изменилось.
Сначала изменилась мама. Раньше она входила в квартиру и тихо говорила в пространство:
— Ну здравствуй, дом, я вернулась.
А потом — перестала. Просто входила и хлопала дверью. Сумка тяжело падала на пуфик, а сама она — на кухонный стул. Руки свисали, плечи опадали, а на лице было что-то... смятое, как выжатый платок.
Домовой сначала подумал, что она заболела. Потом понял: она устала быть единственной взрослой в этом доме.
Муж всё чаще задерживался. А когда был — молчал. Он приходил домой, садился к телевизору или компьютеру, ел в тишине и никому не смотрел в глаза. Не грубил, не ссорился, но всё время казалось, что его больше нет — ни здесь, ни где-либо.
Сын рос отстранённым. Домовой помнил, как он бегал с плюшевым мишкой и слушал сказки. А теперь он сидел с наушниками, ел в комнате и запирался изнутри.
Дочка была колючей, как февральский ветер. То обидчивая, то язвительная. В её комнате пахло духами, батареей и несказанным.
А мама... она перестала варить кашу. Перестала гладить руками подушки. Даже кошку стала гладить реже — и та всё больше уходила под кровать.
Однажды, совсем в тишине, домовой услышал, как мама шепчет сама себе, стоя у зеркала:
— Я больше не могу. Всё на мне. Даже тишина.
Он пытался помочь. Сдвигал предметы, прятал носки, чтобы хоть что-то их объединило — поиск, смех, раздражение, да хоть какая-то эмоция! Но они не реагировали.
Он гасил свет в моменты, когда мама начинала злиться, надеясь, что она остановится. Но она просто включала свет снова — и уже кричала.
Он дергал кошку, чтобы она забралась к дочке в постель. Кошка попробовала. Получила тапком.
Он напрягся до дрожи, чтобы заколыхалась занавеска. Но никто даже не заметил.
И тогда он ушёл.
Не обиженно. Просто тихо. Ушёл туда, где его могли услышать.
А квартира... словно выцвела. В ней всё ещё жили люди, но никто не жил. Мама по-прежнему приходила — но теперь и сумку не ставила, просто бросала. Еда была — но никакой. Свет — но без света. Молчание стало нормой, а обиды — фоном. И даже кошка перестала мурлыкать во сне.
Прошёл месяц. Два. Зима. Новый год прошёл мимо — ёлка была куплена наспех, украшена без души. Подарки — дежурные. Улыбки — механические.
А потом, в один простой вечер — мама поставила на подоконник чашку с молоком.
Без повода. Просто. И в тот же вечер сказала дочери:
— Прости меня. Ты ведь тоже устала.
Дочка молча кивнула. А мама погладила кошку. Положила руку мужу на плечо. Спросила у сына, что он слушает в наушниках.
И впервые за долгое время в квартире что-то щёлкнуло — не лампочка, а воздух.
На следующее утро занавеска качнулась сама собой — от сквозняка или… не от сквозняка. Кошка проснулась и тихонько запрыгнула в мамино кресло. А на полу остался маленький след босой ноги.
Домовой вернулся не сразу. Он сначала приходил на цыпочках, по вечерам. Слушал. Смотрел. Проверял.
И когда услышал, как мама утром варит кашу — пусть только для себя — он тихо присел за печкой и вздохнул с облегчением.
Потому что дом, в котором снова что-то варится, — жив.
А дом, где начали снова говорить друг с другом — его стоит охранять.
| Помогли сайту Праздники |

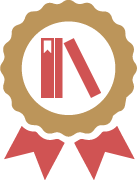

 И хорошо, что закончилась на позитиве. Как и должно быть в сказке!
И хорошо, что закончилась на позитиве. Как и должно быть в сказке!






