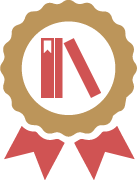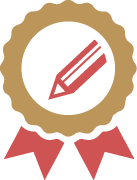Одно из самых ранних воспоминаний: я выхожу гулять во двор — это пространство между двумя деревенскими домами, — в тяжёлом неудобном пальто, и уверенно направляюсь к палисаднику. В заборчике доска, которую можно отодвинуть. Я пролезаю в образовавшуюся щель, ноги скользят по грязи, я падаю в лужу. Со слезами возвращаюсь домой и жду наказания. Но мама — к моему удивлению — не ругает. Она утешает.
Это запомнилось на всю жизнь: я сделала что-то запретное — и не была наказана.
Когда мне было три, я потерялась. Уехала с чужим дядей, пьяным, который подобрал меня на улице и увёз в свою деревню. Мама с папой сошли с ума от страха. Искали, объявляли по радио. Меня вернули только на следующий день. Я этого не помню. Но мама помнила. И боялась снова — не потерять меня, а того, что скажут, боялась мнения соседей, боялась плохо выглядеть в глазах других.
Отец был человеком вспыльчивым. Его часто заносило. Он мог промолчать, стиснув зубы, а мог и швырнуть стакан об стену. Иногда — ударить. Эти сцены разражались как грозы. Когда становилось совсем страшно, мама хватала меня за руку:
— Пойдём к тёте Наде.
И мы уходили. А перед входом к соседям она каждый раз наклонялась ко мне:
— Только никому не говори, что мы поссорились. Никому. Услышала?
Я кивала. Я всегда слышала. И молчала.
Однажды отец подрался с начальником. Слово за слово — и удар. Ему предложили уволиться по собственному желанию. Он уехал в Красноярск, а мама с облегчением осталась со мной одна. Соседям говорила: "Пока нет смысла ехать". А потом услышала, как один десятиклассник, получив двойку, сказал:
— Её муж бросил, вот она и бесится.
На следующий день мы с мамой собирали вещи.
В Красноярске скандалы вспыхнули с новой силой. А мама упрекала меня со злыми слезами на глазах:
— Не плачь. Это ты просилась к папе. Вот тебе твой папа.
Я росла в атмосфере страха. Мама держала меня в строгости, особенно ближе к переходному возрасту. "Ежовые рукавицы" не спасали от подозрений. Всё равно я была виновата — во всём.
Лето я проводила в деревне у бабушки. Туда же приезжала мама, а папа — нет. Он когда-то поругался с бабушкой.
Там я встретила Феликса. Он был юным рабочим с Кавказа. Деревенские называли всех кавказцев "армянами". Эти "армяне" строили летом дом, позже ставший зданием сельсовета. Мне было двенадцать, но Феликсу я сказала, что мне пятнадцать. Он удивился: "А лицо у тебя совсем детское". Мы играли с ним в шахматы. Я влюбилась. По-детски.
Соседка, работавшая сторожем на стройке, разболтала по всему селу, что я бегаю за мальчишкой-гастарбайтером. Мама была в отчаянии:
— Ты опозорила меня! Бабушку! Себя! На всю жизнь!
Я поверила. Мне казалось, теперь уже всё — можно делать что угодно, всё равно клеймо позора уже стоит. В восемнадцать я вышла замуж, чтобы вырваться "на свободу". В двадцать четыре — развелась, опять чтобы вырваться "на свободу". Я жила маме наперекор. Не так, как она. А потом — поняла, что живу, беря пример с неё. Только в противоположную сторону.
Я дружила тогда с Людмилой Ивановной, директором школы. Она была старше, спокойная, замужем за преподавателем вуза. Они любили друг друга — по-настоящему. Без показухи. Эта любовь чувствовалась, как запах яблочного пирога — не нужно видеть, чтобы знать, что она есть.
— Главное — не фасад, — как-то сказала она. — Если ты живёшь честно, и твоя жизнь действительно заслуживает уважения, то это счастье. А если только играешь роль — это ад. Даже если тебя хвалят.
Я тогда многое поняла. Свобода — не в протесте. И не в подчинении. А в совпадении внутреннего с внешним. Я хотела, чтобы моя жизнь не пряталась за дверью. А была — открытой. Такой, какой я сама могла бы гордиться.
| Помогли сайту Праздники |