Когда ты живёшь в городе, тишина кажется чем-то сродни мифу — как единорог или честная аренда. Я ехал к бабушке на дачу именно за этим: за мифом. За обещанием тишины, которую можно налить в чашку чая и выпить с книгой в руках, глядя на капающий с крыши дождь.
Станция называлась «Берёзки». Дом — старый, с облупленной верандой, запахом мятного чая и деревянными половицами, что разговаривают ночью. Я не был здесь лет десять. Но помнил, как утром бабушка ставила самовар, а по вечерам читала вслух Чехова, будто в этом ритуале заключено спасение от мира.
Теперь бабушки не было. Была дача — и я. С ноутбуком, с пледом и планом молчать неделю, как обет.
План начал рушиться утром следующего дня.
Соседка за забором пела. Громко. Неплохо. С выражением. «Милый Августин», потом что-то на французском, потом — саундтрек из старого мюзикла. Я попытался проигнорировать. Потом — наушники. Потом — ударил кулаком по столу.
Она читала вслух.
— "...и потому я пришёл не с повинной, а с сердцем, которое не умеет быть гордым..." — голос у неё был низкий, с хрипотцой. Такой голос не прощают.
Я выругался. Вышел во двор. И впервые увидел её.
Она стояла у своей веранды в длинной футболке и с чашкой. Волосы — как у старинной куклы, немного растрёпаны. Без макияжа. Без забот. Улыбнулась — не мне, не себе, а утру.
— Утро доброе! — крикнула она. — Не мешаю?
— Честно? Мешаете.
— Отлично. Значит, я всё делаю правильно!
И снова начала читать. Уже Гоголя.
Звали её Полина. Я узнал это через день, когда в селе отключили свет, и она постучала ко мне:
— У вас, случайно, генератор не завалялся?
— Нет.
— А Wi-Fi?
— Есть.
— Пустите?
Я хотел сказать «нет». Очень хотел. Но она уже прошла мимо меня, как будто я был мебелью. Уселась за стол, открыла ноутбук и сказала:
— Через пять минут у меня онлайн-занятие. Я преподаю актёрское. Если начну рыдать — не пугайтесь.
Она действительно начала рыдать. Потом смеяться. Потом, обернувшись, добавила:
— Это упражнение. Называется "эмоциональная память". Не трогает?
— Пока больше раздражает.
— Прекрасно. Значит, работает.
Она приходила почти каждый день. Иногда — по делу (интернет), иногда — просто так:
— У вас печенье есть? Мне нужно грызть, когда я учу Чехова.
— А зачем его учить?
— Затем, что кто-то должен его произносить не как школьный разбор, а как дыхание.
Мы спорили. Часто. Я — про тишину. Она — про жизнь. Я — про одиночество. Она — про голос. Я говорил, что город выжег во мне всё живое. Она говорила, что я просто ленюсь быть человеком.
Я злился. Но слушал.
И однажды услышал.
Шёл дождь. Мягкий, как воспоминание. Я читал в доме, когда услышал её голос. Она не знала, что я рядом. Просто репетировала.
— Я не прошу. Я не умоляю. Я просто — здесь. И если ты не скажешь моё имя, я всё равно останусь. Но если скажешь — я стану.
Я замер.
Это не была сцена. Это было настоящее. Даже если написанное. Даже если не мне.
Я сидел, как будто под этим дождём. Словно что-то внутри раскрылось и стало хрупким, и я не знал, как теперь жить с этой хрупкостью.
На следующий день я не выдержал.
— Полина.
Она обернулась. Медленно. Без удивления. Будто ждала.
— Слушаю.
— Это всё — не просто уроки, да?
— А ты всё — не просто сосед, да?
Мы стояли в двух метрах друг от друга. И было ощущение, что расстояние между нами — как между сценой и зрительным залом. Нужно просто выйти — на «ты».
— Я приехал за тишиной, — сказал я.
— А нашёл звук, — ответила она.
— Ты мне мешала.
— Потому что была. И ты — был. Впервые за долгое время.
Мы не начали встречаться. Не бросились друг к другу. Просто — стали завтракать вместе. Иногда — молча. Иногда — вслух. Она продолжала репетировать. Я — чинить забор. Иногда она читала Чехова, а я слушал.
И когда она произносила: «И если ты не скажешь моё имя…» — я всегда говорил:
— Полина.
И это звучало, как дождь: не громко. Но — по-настоящему.


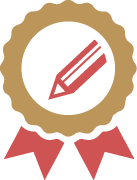
















От сея трудно убежать ...
Хорошо, когда ещё и не дают это сделать