С вечера зарядил дождь — тёплый, мягкий, необычный для ноября. Ночь тихо засыпала под его шелест: уснули люди, дома, травы, деревья, почерневшие птичьи гнёзда, булыжники мостовой, собаки в будках и коты на лежанках. Уснула сама земля под высоким, уже по-зимнему зелёным небом.
И тут в глубине старого дупла что-то глухо ойкнуло, вздохнуло, заворчало, словно приоткрыли ларец с тугим механизмом. И вмиг всё пришло в тихое, но неустанное движение: вступая один за другим, как в отлаженном механизме, недовольно скрипнули ветки, тревожно зашептались листья, закачались верхушки сосен. Где-то пискнуло, ухнуло, взвыло, повеяло холодом — и на волю вырвался ветер.
— Гхау-у-у, ву-у-у-у! — взвился он над ошалевшей землёй, промчался над деревьями, с жестокой радостью разметал сонные тучи, провыл победную песнь в водосточных трубах, перепугал зверьё, завертел жухлые листья в дьявольской пляске. Кое-где в окнах стали загораться огни, за занавесками различимы были женские силуэты: матери успокаивали плачущих младенцев.
Но в одном из домов на Параллельной улице огонь горел с вечера. Молодая женщина металась на широкой кровати, оставляя тёмные пятна от пота и крови. Вздыбленный горой живот её никак не хотел выпускать того, кто так настойчиво просился на свет.
— А-а, оу-ур-р! — рычала женщина, выгибая худенькую спину.
— Ву-у-у! — с новой силой завыл ветер.
— Тьфу, принесла нечистая сила! — сплюнула пожилая женщина с тёмным лицом — свекровь роженицы. — Всё тихо было, а тут завыл, как не к добру, и кружит, и кружит. Да что ж такое, — обратилась она к повитухе, — с трёх часов мучается и всё никак. Ведь не первые роды, не трудно ей.
Повитуха растерянно пожала плечами. Но сделала это незаметно, чтобы никто не догадался, что ей тоже страшно. Скольких людей она, искусница, встретила и проводила из этого мира — и сосчитать сложно, но вот такое видела впервые. Ни уговоры, ни повороты, ни поглаживания, ни надавливания на живот, ни жаркий заклинающий шёпот пользы не приносили. На лицо роженицы было страшно смотреть: почерневшее, с искусанными губами и огромными бездонными глазами, в которых цвела боль.
«Если за двадцать минут не разродится, — мелькнула мысль, — придётся в район гнать за врачом. Знала бы, что так выйдет — не бралась бы. Да кто знал…»
За всю свою долгую практику поселковая повитуха обращалась к врачу только четыре раза. Но тогда были совсем уж пропащие случаи: возраст рожениц, крупные плоды или кровотечение. А тут вроде всё в порядке: двадцатитрёхлетняя женщина, второй ребёнок, не очень большой, судя по животу, и лежит правильно, как полагается. Что ж такое, словно заговорил кто…
— А-а-а-а, у-о-о-о-о! — дико завопила женщина, что есть силы ухватилась за простыню, разорвала её и сползла на пол.
— Что ты, что ты! — засуетилась бабка. — Нельзя так, застудишься. Давай-ка обратно, — бормотала она бессвязные, но милые слова, успокаивая роженицу и пытаясь приподнять её.
— Оставь! — тихо, но властно промолвила свекровь. Будто какое-то наитие скользнуло по её лицу: оно на мгновение озарилось светом и снова погасло. — Оставь, — повторила она мягче. — Сейчас разродится.
Она проворно уселась на пол около невестки, обняла её за голову, что-то истово зашептала. Повитухе стало страшно. Словно двухголовая гидра явилась перед нею: два шара с мокрыми тёмными волосами и седыми, взлохмаченными — равномерно раскачивались, тихонько подвывая и непрерывно шепча слова на каком-то древнем наречии — то ли заклиная, то ли моля. Да и были ли то слова человеческого языка? Может быть, клекот птиц, звериный стон или свист ветра?..
— Ор-рау-у-у! — вдруг раздался утробный, нечеловеческий вой. Роженица выкатила глаза, напряглась. Повитуха кинулась было к ней, но свекровь выставила вперёд ногу, заграждая путь, и, что есть силы, прижала невестку к полу.
— Ну, ещё чуть-чуть. Вот сейчас!
— Ву-у-у-у! — взвизгнул ветер, и одновременно с ним, словно эхо, раздались два крика — сильный, победный женский и басистый писк младенца.
— Ну, всё, всё… — свекровь отвела прилипшую прядь со лба невестки и прикрикнула на повитуху:
— Что застыла? Забыла, что делать? Пуповину режь! Кто?
— Мальчик, — опомнилась бабка, и руки её проворно заскользили по телу роженицы. — Да крепкий какой, боровичок. И кричит басом. Тяжёлый, — подала она младенца свекрови.
— Наша порода, — удовлетворённо хмыкнула женщина. — Кряжистый, по земле уверенно ходить будет. — С ней что? — кивнула она на невестку. Та была в беспамятстве.
Повитуха умелым нажатием извлекла послед, ещё раз осмотрела роженицу и улыбнулась:
— В порядке. Но ты сильна, мать. Я — что греха таить — чуть было не струхнула, когда она на пол сползла, а ты ловко так управилась. Знание в тебе, что ли, какое? — пытливо уставилась она на свекровь.
— Никакого знания у меня нет, — отрезала та. — Просто от земли сила — вот она ей и помогла. — Ну, пойду нашим скажу, а ты ей спать не давай.
— Как назвать думаешь? — шепнула повитуха.
Роженица приоткрыла глаза, что-то прошептала. Но расслышать не удалось: в комнату быстро вошла свекровь, поцеловала невестку и шлёпнула рядом с её головой на подушку коробочку.
— Тебе! — торжественно изрекла она. — От нас с дедом. За внука!
И, видя, что у невестки нет сил шевельнуть рукой, сама открыла коробочку. В ней, на чёрном бархате, лежали удлинённой формы серьги: рубин в чернёном серебре. Работа была старинная, добротная. Рубин вспыхивал каплями крови, словно сгустки её, а не камень были заключены в оправу.
— Красота какая! — искренне восхитилась повитуха. — Как живые горят.
— И тебе подарок причитается, — свекровь протянула бабке свёрток. В нём оказалась тёмно-золотая шаль с кистями и завернутые в бумагу деньги. Повитуха ахнула и бросилась шумно благодарить.
— Не тарахти. Им покой нужен. Что это он, до сих пор кулачков не разжал? — встревожилась женщина. — Как родился со сжатыми — так до сих пор и лежит?
— А ну-ка… — обе женщины наклонились над младенцем. Мать кинула на них беспокойный взгляд.
— И вправду! — повитуха осторожно ухватила крохотные кулачки, попробовала разжать. Когда это удалось, они заметили на ладонях два тёмных пятнышка.
— Родинки? — недоумённо протянула свекровь. — Непохоже. Да это же кровь! Ну, как есть капли крови. Смотри — какой, в кулаках кровь унес.
Повитуха закусила губу. С давних времён рождение ребёнка со сжатыми кулачками, да ещё с каплями крови в них, считалось дурной приметой: значит, в мир пришёл человек прижимистый, скупой, да ещё неуемно властный, жаждущий весь мир прибрать к рукам.
Свекровь словно угадала её мысли. Ещё раз вглядевшись в пятнышки, сказала победно:
— Не начинай. Видишь — тёмные, как земля. Значит, быть ему на земле, по ней ходить, её беречь.
— Угу-у-у, — с новой силой зашумел ветер. Но не яростно, а глухо, словно соглашаясь.
— И быть ему тогда…
— Георгием, — послышался мужской голос из соседней комнаты. — Земледелец, значит.
— Ну вот и имя, — утвердила свекровь. — Дед пояснил. Это мы уже подумали так: отец, я и дед. А сюда шла, чтобы у невестки спросить: как ей имя?
Роженица улыбнулась:
— Я это в голове и держала. Дайте мне его.
На тонких материнских руках, словно в самой уютной колыбели, спал, покачиваясь, младенец. Припухший, как все новорождённые, и всё же умилительный, он чуть слышно посапывал и время от времени подрагивал ножками, словно уже сейчас примеривал на себя землю.
***
Георгий жил и рос как обыкновенные мальчишки. Дрался, мирился, разбивал коленки, наставлял себе синяки и шишки, слушал наставления старших, а иногда дерзил им, умел дружить, успевал по учебе и в помощи по дому, где помимо него было уже двое младших братьев, жалел мать, бабушку и старшую сестру – на их женские плечи ложилась вся работа по дому.
Но во всем, что бы он ни делал и не говорил, чувствовалась несвойственная возрасту степенность. Глядя на кряжистое невысокое тело, крепкую и точно посаженную голову – словно Господь примеривался и сразу, одним махом усадил точеный шар головы посреди широких плеч, узкие черные глаза, в которых светились отвага и ум, и маленький сведенный рот – никому и в голову не приходило назвать мальца Жоркой или Гошей, только Георгием. А с 15-ти лет и Георгием Анатольевичем – так разумны и дельны были немногословные его речи и советы, что к ним поневоле прислушивались.
С отчеством, правда, курьезный случай приключился. В пятом классе учительница истории – старушка Божий одуванчик – всплескивала руками, умиляясь на Георгия:
– Нет, ну вы только посмотрите, это не ребенок, это натуральный Антей, сын матери-Земли. Ходит, словно землю на вес чувствует, не говорит, а роняет слова как камни.
Так и прилипло к Георгию прозвище Антей. А дальше больше. Стали называть его не Анатольевич, а Антеевич. Некоторые и Антеновичем величали, но беззлобно, шутя. Георгий не обижался. Понятие обиды вообще с его обликом не вязалось. Но все чувствовали: такого задеть – себе дороже. Не простит.
Отменным здоровьем Бог наделил Георгия. Права оказалась повитуха и бабушка – крепким родился, таким и рос, не в пример своим братьям и сестре – те любую простуду цепляли. Чуть ветер подует – они уже в соплях и с жаром. А Георгию хоть бы хны: ни одна хворь не брала. Только высоты боялся, даже небольшие подъемы вызывали у него дурноту. Даже теплый второй этаж родительского дома не любил, оставил за собой прохладную комнату на первом, и там же устроил себе мастерскую.
– Работник растет, – смахивала слезу мать, глядя, как старательно Георгий что-то чинил, мастерил, прибивал, точил. – Помощник мой, тьфу-тьфу.
[justify]Но больше всего любил Георгий возиться с землей: мотыжил, вскапывал, разравнивал,


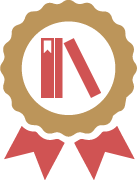
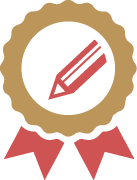













С глубоким уважением