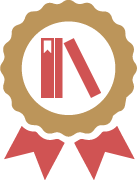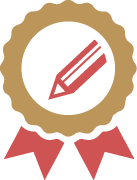полуслова и стойко переносящей порой очень тяжелые и неудобные позы, предложенные ей Владимиром.
Во время его работы они обычно разговаривали, хотя со стороны и казалось, что говорил только он один. Тем более что в таких случаях Бессонов говорил только на русском языке. Но ее молчание, по-видимому, вполне устраивало художника.
— ...А уже в девятнадцатом, когда мое лицо полностью зарубцевалось и прошли эти выматывающие приступы кашля, я тайком пробрался в Москву. Моя невеста, Елена, она очень на вас похожа... Я хотел ей все рассказать, объясниться... Мне уже передали, что она вышла замуж за какого-то там красного снабженца, но я не верил, думал, что этого не может быть, просто не имеет права быть. Мне казалось, что мы так любили друг друга тогда, перед самой войной. Но все, к сожалению, оказалось правдой. Я ее, конечно, понимаю, брак с большевиком — лучшая индульгенция за происхождение, но... Но я до сих пор не могу понять, как она смогла, сумела во время той короткой, единственной нашей послевоенной встречи сказать такое!? «Я вас не знаю. Поручик Бессонов, которого, впрочем, я почти и не знала, так, видела его пару раз на раутах княгини N, погиб во время газовой атаки. Уходите». Вот слова, которые она мне бросила, презрительно улыбаясь. Хотя по глазам ее я понял, что она меня, конечно же, признала. А ведь мы с ней были обручены. Хотя, если рассуждать здраво, чего я мог от нее ожидать? К ней приходит некто, нелегал, да еще с такой рожей. И все равно обидно. Вы меня понимаете, Елена? Хотя, что вы можете понять? Я и сам себя-то не очень понимаю.
...День за днем Бессонов работал со своей молчаливой натурщицей. Работы его с удовольствием расходились по художественным салонам и галереям Парижа. Их покупали, покоренные робкой наивностью и душой исполнения, и грациозностью самой модели. Однажды, когда по темному оконному стеклу чуть слышно стекали холодные слезы первого сентябрьского дождя, Элен сама сбросила с себя одежду, и впервые Владимир принялся за обнаженные формы.
А уже через месяц, в самый разгар осенних дождей, они оказались в одной постели.
Пропуская сквозь пальцы ее волнистые волосы и целуя нежную кожу своей натурщицы, Владимир уже подчас и не осознавал, с кем он сейчас находится — со своей ли парижской гувернанткой или же с невестой своей московской, далекой, чужой, но тем не менее очень любимой Еленой.
Иногда, под вечер, когда над городом опускались лиловые сумерки и уродство его лица не бросалось в глаза редким прохожим, он брал Элен под руку и приводил ее к своим ивам.
Молча стояли они, смотрели, как волны из серо-свинцовых превращались в бездонно-черные, с качающимися на их поверхностях разбитыми желтками редких в этом месте фонарей.
В начале зимы Элен отпросилась на неделю к своей заболевшей родственнице в Орли. Оставшись в тишине полного одиночества, от которого Владимир уже так отвык, он вдруг с полной очевидностью осознал, что без нее, без своей Елены, уже не может совершенно обходиться.
Господь подарил ему еще один шанс. Еще одну любовь.
Как-то под вечер, роясь в ящике письменного стола в поисках точилки для карандашей, Бессонов совершенно случайно обронил какой-то голубой, надушенный конвертик, надписанный легким, летящим почерком Элен.
Всю ночь он проворочался в постели, несколько раз брал в руки конверт и вновь откладывал его. Прикуривал папиросу, чтобы тут же погасить ее в переполненной окурками пепельнице.
Отчего-то этот голубенький, надушенный конвертик пугал Бессонова. Неизвестность вообще страшит, а Владимир, возомнивший, что знает о своей Елене все, что только возможно, почувствовал интуитивно, что есть в их отношениях что-то ему еще не известное.
Часы за окном пробили пять, и Владимир решился.
— ...«Дорогой Мишель. Прошу тебя еще немного терпения. Урод, похоже, влюбился в меня без памяти. Помогло сходство с его московской пассией. Еще совсем чуть-чуть, и он предложит мне свою руку и сердце. А там и брачный контракт с наследством не заставит себя ждать. Он совсем ослеп от своей любви ко мне, газет не читает, и, похоже, что и не знает, что дядя его, живший в свое время в Харбине, умирая, отписал ему все свои сбережения и имущество. А это уже миллионы. Как только вернусь из Орли, я, почему-то уверена, сразу же стану госпожой Бессоновой, а там, Бог даст, и молодой богатой вдовой. Целую тебя, мой ненаглядный Мишель, и прошу не ревновать меня к этой русской образине. Подойди к зеркалу, и ты поймешь, что ревность твоя просто смешна. Вся твоя Катрин.
Париж. 8 декабря 1922 год».
Дрожащий рассвет осветил город, покрытый мокрым, липким тонким снегом. Осветил по-зимнему серые дома, промокшие тенты уличных кафе, гранитную набережную Сены. Осветил и три поникшие, озябшие ивы, уже с оборванной местами бурой листвой, и тонкую цепочку наполненных водой темных следов на промокшем снегу, спускающихся прямо к реке…
В рассказе использовались достоверные факты. Все имена изменены.
Одуванчик
Я шёл, сверяясь с картой, по одной из берлинских улиц. Под ногами скрипели обломки кирпича и позвякивали гильзы от патронов. По безлюдным бульварам ветер носил обрывки бумаги, прошлогоднюю серую листву, но было непривычно, не по-военному тихо.
Мне необходимо было найти штаб 8 гвардейской армии и отдать пакет с донесениями за последние дни штурма.
Свернув в сторону, я остановился. Улица в этом месте была перегорожена разбитой боевой техникой. Остовы танков, с пробитой бронёй, зияли чёрными дырами, словно глазницы черепов, напоминая о недавнем сражении за город. Воздух был пропитан запахом горелого металла, пороха и тлена.
Сняв с головы фуражку и вытерев выступивший на лбу пот, я осмотрелся. Весна, тёплая, нежная, солнечная, решительно заявляла о себе высоким голубым небом, лёгкими облачками, набухающими почками на изуродованных взрывами и пулемётными очередями деревьях. Неожиданно взгляд зацепился за что-то ярко-жёлтое, праздничное, необычное, на мгновение мелькнувшее среди серого хлама разбитой улицы… Шагнув вперёд, я замер, улыбаясь и не веря своим глазам: на взрытой разорвавшимся снарядом обочине безрассудно тянулся вверх резными листьями и солнечной головкой на тонкой ножке… одуванчик.
– Как же ты уцелел-то в таком аду, дружище? – Я чуть коснулся цветка рукой, улыбнувшись ему, как старому знакомому. – Эх, сколько же таких растет на родной Рязанщине!
Надо было торопиться, но я никак не мог заставить себя сделать хоть один шаг: казалось, одуванчик не отпускал. Примостившись на капоте сгоревшей машины, я достал из планшета лист бумаги, карандаш у меня, военного художника, всегда был с собой. Отложив в сторону автомат, я стал торопливо делать наброски разрушенного здания, завалов, а на переднем плане рисовал цветок, покачивающийся на ветру.
Уйдя с головой в работу, я несколько раз менял свою позицию: мне хотелось найти такой ракурс, чтобы суметь передать хрупкость и силу весеннего цветка, его безрассудство и жизненную мудрость.
Что бы ни происходило в этой жизни, – думал я, – какие бы великие события не потрясали человечество, ты, одуванчик, прав в том, что всё в жизни должно идти своим чередом, для всего есть своё время: время жить и время умирать, время радоваться и горевать.
Холодный металлический звук вернул меня к действительности. Перепутать его ни с чем другим было нельзя. И нельзя отменить, нельзя проигнорировать, нельзя запретить… Это был лязг передернутого автоматного затвора. Я похолодел, сердце на секунду остановилось, сжалось, а потом отчаянно рванулось, забилось в рёбра пойманной птицей. Я бросил взгляд на то место, где, по моим расчетам, должен был лежать автомат, но он находился в двух метрах слева от меня. Дотянуться до него не было никакой возможности…
– Всё, это конец… – Я горько усмехнулся. – Как же так? Пройти всю войну почти невредимым и так глупо погибнуть уже после Победы. Дойти до Берлина… Как же так?
Оцепенев, я ждал выстрела… Сейчас мир, что стоит перед моими глазами, расколется на части и рухнет, опрокинется небо и упадет на землю, медленно погаснет свет, как в кинотеатре после сеанса, – и наступит тьма, вечная тьма, в которой никогда уже не будет ни этого города, ни майского дня, ни одуванчика, ни рязанских полей… НИЧЕГО. Я чувствовал, как внутри меня медленно и неотвратимо смешиваются в большой тёмный клубок боль, отчаяние и гнев.
Упругий ветер перевернул выпавший из моих рук рисунок, подхватил его и погнал по земле.
– Смотри! Löwenzahn (одуванчик) – прозвучало за спиной.
– Странный этот русский. Очень странный. Рисует и ничего вокруг себя не видит.
Опять немецкая речь, язык, который я учил ещё в школе, а потом четыре года разговаривал на нём во время допросов пленных немцев в штабе нашей армии. В ушах еще стоял сначала надменно-презрительный, затем удивлённо-обескураженный и наконец жалобно-просительный тон немецких военнопленных. А сейчас этот диалог прозвучал как-то мирно, обыденно.
Я медленно обернулся: передо мной стояли два немца в форме без знаков отличия, грязные и уставшие. Один был постарше, лет пятидесяти, с автоматом в руках, ствол которого был направлен на меня, второй моложе, может, даже мой ровесник. Он, наклонившись, поднял рисунок, расправил его и неожиданно улыбнулся:
– Камрад, ты не думай, мы не фашисты. Мы не хотим никого убивать, да и война закончилась. Третий рейх капитулировал. Просто нас заинтересовало, что ты здесь делаешь. Оказывается, ты рисуешь. Ты художник?
Я медленно выдохнул, кивнул:
– Да. Я художник.
– Это поразительно. Ведь я до войны тоже был художником. Манфред Ольгарт из Кёнигсбрюка, земля Саксония. – представился он, слегка кивнув, и оглянулся на своего товарища. – А это мой сослуживец, Ганс Фогель. Он из Берлина.
– Манфред, я, пожалуй, пойду. – Пятидесятилетний немец закинул автомат за плечо. – Хотелось бы добраться до своего дома, если его не разбомбили, и узнать, живы ли мои Бертина и маленькая Лиззи.
Он, прощаясь, пожал руку молодому, а потом неуверенно протянул её мне, как бы сомневаясь, пожмёт ли русский офицер руку своему недавнему врагу. Я, не раздумывая, крепко пожал её.
– Я в Берлине был в детстве, и единственное, что запомнилось, это архитектура периода Веймарской республики. А сейчас почти всё разрушено войной. – Оставшийся немец вздохнул, покачав головой. – И сколько лет потребуется на восстановление, не знает и Господь…
– Закуришь? – предложил он, протягивая пачку сигарет.
– Я как-то привык к своим. – С этими словами я вытащил из кармана пачку «Беломора». – Хочешь попробовать?
– Нет, спасибо, лучше уж я тоже буду курить свои. – Он затянулся сигаретой, обвёл задумчивым взглядом руины домов, потом взглянул на мой рисунок.
– Разрушенный город как символ бесчеловечной войны, а золотой одуванчик – символ рождения новой жизни. Жизни без войны, стрельбы и ужаса от потерь… Правильно я понял? – спросил он, возвращая рисунок и внимательно глядя мне в глаза. – Интересно, надолго ли?
Я грустно улыбнулся и пожал плечами.
– Да, именно так, – решительно сказал он. – Одуванчик – символ стойкости и надежды. Несмотря на все ужасы, он продолжает расти, тянуться к солнцу. Мы все потеряли что-то важное за эти годы. Я не знаю, как будет
| Помогли сайту Праздники |