Те люди, о которых мне хотелось бы написать, не ходили в атаки, не брали штурмом здания. Им не приходилось входить победным маршем в освобожденные города. И, тем не менее, они ковали победу наравне с теми, кто с оружием в руках защищал родную землю. Сумел бы наш народ победить без них? Наверное, да. Но недооценить вклад этих людей в борьбу с врагом было бы большой ошибкой. Люди, о которых пойдёт речь в этой работе – военные переводчики.
Этому человеку судьба отмерила долгую жизнь длиной в 98 лет. Если бы Илья Семёнович дожил до нашего времени, то в этом году он отметил бы столетний юбилей. Когда началась война, он, конечно же, рвался на фронт. Одного из лучших студентов МГУ, который хотел попасть в лыжный батальон (были в военное время и такие), забраковали из-за слабого здоровья. Возможно, именно это и спасло ему жизнь. Попади он сразу же на передовую, шансов остаться в живых, у него было бы намного меньше. Позднее Кремер вспоминал, что когда в 1941 году он первый раз увидел колонну марширующих через его родное село немцев, у него не было ощущения, что он видит противников. «Это были самые обычные люди, только в военной форме. Своей подтянутостью они невольно вызывали уважение», - вспоминал он в одном из своих рассказов о Великой Отечественной.
Через четыре года Илья Кремер окажется в осажденном русской армией Берлине. Ночи в начале мая 1945 года будут достаточно холодными, но он предпочтет спасаться от холода приседаниями и маршировкой. Накинуть на себя одно из шерстяных одеял, которые выдавали солдатам Верхмахта, он так и не сможет – такое отвращение вызывали у нашего солдата вещи, предназначенные для врагов.
А тогда, в начале войны, студент второго курса Илья Кремер, чтобы хоть как-то помочь армии, решил устроиться на завод, где помогал собирать легендарные «Катюши». Чуть позже он записался в отряд добровольцев и копал противотанковые траншеи, на случай подхода немецких войск к Москве. После окончания IV курса ему всё-таки удалось попасть на фронт, а с конца апреля он работал военным переводчиком. Начало переводческой карьеры было ознаменовано тем, что Кремеру пришлось переводить большое количество документации, которую чудом удалось раздобыть как дополнение к трофейному оружию. Молодой переводчик находил это занятие несколько скучным и очень сокрушался, что ему не удавалось поговорить с немцами, которые оказывались в воинской части в качестве «языков». Однако, несмотря на то, что студенту ещё предстояло доучиваться и заканчивать институт, его переводы технических описаний были выполнены настолько хорошо, что ими заинтересовался С.П. Королёв. Особенных успехов переводчик Кремер достиг при переводе технического описания ракет V-2. Это была первая в мире баллистическая ракета дальнего действия, которую разработал немецкий конструктор Вернер фон Браун. Ракета имела ряд недоработок, и, тем не менее, в конце Второй мировой войны было решено принять её на вооружение.
Владимир Самойлович Галл
Иногда переводчикам приходилось выступать немного в необычной для них роли. Так, например, Владимир Галл, который оказался на войне в 26 лет, сразу после окончания факультета германистики Московского философского института, называл себя «разложенцем». Безукоризненно владея немецким языком, Галл собственноручно написал тысячи листовок, которые призывали немецких солдат как можно быстрее закончить кровопролитную войну. Разложить немецкие войска морально – этого добивался Владимир Галл, который, хоть и понимал, что на войне невозможно обойтись потерь, не мог выстрелить в человека.
В 1944 году капитан Галл выступил в качестве парламентера, вынудив командование крепости Шпандау, которая находилась на территории Германии, сдаться. Быть парламентером иногда небезопасно. Известно немало случаев, когда во время войны гитлеровцы расстреливали тех, кто, желая мира, пытался вести переговоры о прекращении боевых действий.
В Шпандау переводчик Галл попал… по верёвочной лестнице! На самом деле Шпандау была не совсем крепостью. Это был целый город. С десятком улиц, четырьмя площадями, множеством построек и всеми необходимыми коммуникациями.
Начальство крепости, которое засело в ней, взяло в заложники мирных жителей, и никак не шло на уступки. Стрелять же по крепости, за стенами которой было мирное население, советские войска не могли. Был ещё один выход – взять крепость штурмом. Но тогда наши армейские подразделения понесли бы очень большие потери, поскольку вооружения в крепости было более, чем достаточно.
Галл вызвался идти на переговоры сам. Командир, посмотрев на невысокого худощавого капитана, только усмехнулся: «Иди, коли жизнь тебе не дорога». И Галл пошёл. Когда он обратился к врагу, прокричав на немецком языке, что является парламентером, ворота перед ним никто не открыл. Вместо этого со стены на переводчика упала веревочная лестница, по которой он и его боевой друг капитан Гришин поднялись в крепость. Спустившись, они увидели группу немецких автоматчиков, которые нацелились на них.
Предложив условия сдачи крепости, два смельчака ожидали, что по ним вот-вот откроют огонь. Однако, этого не произошло. Три часа, которые были даны на обдумывание, закончились. Внезапно ворота цитадели открылись и оттуда вышел сначала комендант крепости, а затем солдаты с поднятыми руками. Самое главное, как позднее рассказывал Владимир Самойлович, было то, что крепость наконец-то было разрешено покинуть удерживаемым в ней людям. Для Галла, который всегда ценил слово больше, чем стрельбу, это было очень радостным событием.
«Человек, сумевший взять цитадель без единого выстрела, одним только словом», - под такими заголовками в те дни выходили газеты. Вот уж правда: «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести». В тот день Владимиру Галлу удалось спасти несколько сот жизней людей, среди которых были, в основном, старики, женщины и дети.
Мне очень нравится, как сказал один из авторов нашего сайта - Алексей Осидак, выражая свою мысль о том, что разумные люди всегда предпочитают словесные действия. Взяться за оружие можно успеть всегда. Прежде в любом случае надо попробовать навести словесный контакт. А когда на пути встаёт незнание языка - поможет переводчик.
Когда говорят военные
В Нью-Йорке, в Херсоне, в Генуе -
Умеют вязать служивые
Лишь залпы в одном рожке.
Общаются эти маршалы
Несущими хаос маршами,
Сплетёнными в петли жилами -
У каждого разум-шкет.
Но есть, ура! переводчики,
Паромщики, перевозчики,
Связисты, что вяжут разумом
Обрывы в мозгах бойцов.
Ведь можно не сотни вырезать,
А просто словами выразить
Что ярость и гнев заразные
Насилием и свинцом.
Когда убедишь противника,
Что в сказку нельзя уйти никак,
Что горы сильны уступами
И нужен всего почин,
И внемлет тот собеседнику,
Что смысла поля усеивать,
Не видится вовсе трупами
Без крайних на то причин.
Свою пожалеет армию
Противник, высокопарною
Не брызжа кругом помпезностью
И тысячи душ спасёт.
А всё переводы тонкие
В Берлине, в Нью-Йорке, в Токио
Возможно уже над бездною
В пучину прервут полёт.
Федор Савельевич Хитрук

Мультипликационные фильмы «Каникулы Бонифация», «Фильм, фильм, фильм» и «Винни-Пух» знают все без исключения. Героев этих мультфильмов создал выпускник художественного техникума Фёдор Хитрук.
Правда, всё это было намного позже. А в 1941 году, когда началась война, будущий мультипликатор был отправлен на шестимесячные курсы иностранных языков. У него была самая «обычная» переводческая работа: разъяснять на русском языке то, о чём говорили взятые в плен немцы. Эти сведения были очень ценными, потому что, зная информацию о нахождении немецких сил, советские войска избегали участи столкнуться с врагом «лоб в лоб» или подорваться на мине.
Когда был налажен радиоперехват, Фёдор Хитрук добывал ценные сведения, как он шутя говорил, «прямо из воздуха». Особую важность несла информация о местоположении и количестве врага, и один раз переводчик ошибся, перепутав слова “hundert” («сто») и “tausend” («тысяча»), сказав, что в городке, который собирались взять советские войска, находится около трёх тысяч немцев. Каково же было удивление, когда город сдался почти без боя! Русские воины превзошли силы противника, ожидая столкнуться с теми самыми тремя тысячами солдат, которых на самом деле оказалось триста.
За ту ошибку переводчику ничего не было. Правда, этот случай с волшебным превращением сотен в тысячи ему вспоминали ещё долго. Вот если бы он ошибся в обратную сторону – последствия были бы куда хуже.
Дойдя до Берлина, Фёдор Хитрук продолжил служить в армии, переводя документы, которые подлежали оглашению, а так же сдаче в архив.
Немецкий язык пригодился мультипликатору в основной работе. Литературы по созданию мульфильмов в Советском Союзе было немного, поэтому приходилось пользоваться тем, что удавалось привозить из-за границы. Поскольку Фёдор Савельевич владел немецким на очень высоком уровне, он всегда просил коллег по цеху, которые ездили в ГДР, привозить ему книги и журналы по анимации. Если же удавалось достать изданное в ФРГ – он бывал на седьмом небе от счастья. Всё, что мультипликатору удавалось почерпнуть в заграничных изданиях, он немедленно претворял в жизнь.
Конечно, военных переводчиков было и остаётся очень много. Написать в одной работе обо всех невозможно. Вклад переводчика в победу, быть может, не так заметен по сравнению с боевыми действиями. Но от этого он не может считаться маловажным. Ведь "навести мосты" между враждующими сторонами порой очень и очень нелегко.
Правда, всё это было намного позже. А в 1941 году, когда началась война, будущий мультипликатор был отправлен на шестимесячные курсы иностранных языков. У него была самая «обычная» переводческая работа: разъяснять на русском языке то, о чём говорили взятые в плен немцы. Эти сведения были очень ценными, потому что, зная информацию о нахождении немецких сил, советские войска избегали участи столкнуться с врагом «лоб в лоб» или подорваться на мине.
Когда был налажен радиоперехват, Фёдор Хитрук добывал ценные сведения, как он шутя говорил, «прямо из воздуха». Особую важность несла информация о местоположении и количестве врага, и один раз переводчик ошибся, перепутав слова “hundert” («сто») и “tausend” («тысяча»), сказав, что в городке, который собирались взять советские войска, находится около трёх тысяч немцев. Каково же было удивление, когда город сдался почти без боя! Русские воины превзошли силы противника, ожидая столкнуться с теми самыми тремя тысячами солдат, которых на самом деле оказалось триста.
За ту ошибку переводчику ничего не было. Правда, этот случай с волшебным превращением сотен в тысячи ему вспоминали ещё долго. Вот если бы он ошибся в обратную сторону – последствия были бы куда хуже.
Дойдя до Берлина, Фёдор Хитрук продолжил служить в армии, переводя документы, которые подлежали оглашению, а так же сдаче в архив.
Немецкий язык пригодился мультипликатору в основной работе. Литературы по созданию мульфильмов в Советском Союзе было немного, поэтому приходилось пользоваться тем, что удавалось привозить из-за границы. Поскольку Фёдор Савельевич владел немецким на очень высоком уровне, он всегда просил коллег по цеху, которые ездили в ГДР, привозить ему книги и журналы по анимации. Если же удавалось достать изданное в ФРГ – он бывал на седьмом небе от счастья. Всё, что мультипликатору удавалось почерпнуть в заграничных изданиях, он немедленно претворял в жизнь.
Конечно, военных переводчиков было и остаётся очень много. Написать в одной работе обо всех невозможно. Вклад переводчика в победу, быть может, не так заметен по сравнению с боевыми действиями. Но от этого он не может считаться маловажным. Ведь "навести мосты" между враждующими сторонами порой очень и очень нелегко.

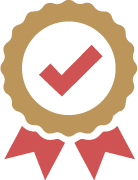






 Истории описывать
Истории описывать


 очень интересно
очень интересно 

