Мама слабеет. Каждый вдох — тише, короче. Она будто уже не со мной, уже там.
Лежит лёгкая, прозрачная — кости да голос, и тот еле слышный.
Я сижу рядом. Держу её ладонь — тонкую, почти невесомую, как птичье крыло. Она дремлет. Вдруг открывает глаза и шепчет:
— Как хочется дожить до весны...
Я вздрагиваю. Эти слова — удар в сердце. Беззвучно плачу, а мама продолжает, едва шевеля губами:
— Дальше не хочу. Пожила… хватит. Весну увидеть хочется. Капель… кап-кап-кап с крыши. Земля проснётся, травка пойдёт…
Не хочу в мёрзлую. Весной хочу. Земля весной — как пух.
Она ненадолго забывается. Я сжимаю её ладонь — будто смогу удержать в этом мире.
И вспоминаю, как в детстве она пела. Голос у неё был чистый, сильный — горный родник. Но нам она пела тихо, нежно: колыбельные, когда я не могла уснуть, украинские — чтобы дела ладились веселее.
Про журавлей, про тихую ночь, про девушку, что прощается с любимым.
Голос исчез лет десять назад, но иногда она всё же пела — другим, слабым, почти потерянным. И мы знали: пока мама поёт — у нас всё будет хорошо.
Теперь её голос всё глуше, дыхание — тонкая, прерывистая нить. Я прикладываю её ладонь к щеке. Холодная.
Вдруг она снова шепчет обрывки слов, а в моей голове звучат стройные, знакомые фразы:
— Мама у меня из хутора. Я ж в войну родилась… мёртвой.
«Не оживляй, — просила мама. — У меня двое, куда мне ещё она?»
Тётка Наташа отхлестала по заднице — и я заорала. Ожила.
Как мама нас всех в войну сберегла — не знаю. Латутики пекла. Мне, Зинке и Нинке.
Сёстры постарше, а я грудная. А мама — по латутику каждой и на работу до ночи. Латутик — лепёшка такая из сорной муки и травы.
Сёстры по кругу обкусят мой. А мне — то, что останется. Мама рассказывала и всегда плакала. Жалела меня. По голове гладила…
Она говорит урывками, тяжело дыша. Глаза полуприкрыты. Она где-то далеко.
То ли узнаёт меня, то ли нет — не понять. Слова её не для меня. Это обрывки прошлого, мерцающие в угасающем сознании.
— Весной всегда легче. Щавель, сныть, кислица — всё еда. Корова Бурёнка отелится — молока чуть-чуть. Мы с кружками в очередь. Мама нальёт каждой. Выжили…
— Весной отец вернулся. Не в сорок пятом — позже. В плену был. Проверяли. Пришёл. Мы с Нинкой к фотографии побежали. Смотрели: он ли? Свой? Чужой? Зинка его довоенного помнила. Сразу признала. Побежала звать мать.
— И замуж я весной выходила. Васенька мой… любил меня. Жалел… Пожил только мало. В феврале умер. А я весной хочу.
Я плачу. Тихо-тихо — чтобы не спугнуть её уход.
— Дети мои — седые совсем. Дети у них, внуки. Все хорошие. Заботливые. А я устала. К нему хочу. К Васеньке моему. К мамочке. К сёстрам. К отцу. К дочке своей маленькой…
Держу её руку. Она почти не дышит. Вдруг широко открывает глаза — смотрит сквозь меня и уже не говорит, а шипит:
— Ах, как хочется… до весны… чтобы солнышко… и капель...Яблони зацветут… Красиво… А меня не будет…
Губы делают последний выдох — пальцы разжимаются. Я всё ещё держу её руку… Потом из моей груди вырвется крик. Но это потом. А сейчас я только шепчу ей вослед:
— Мама, не уходи.
Моя мама жива.
Этот рассказ — сублимация моего внутреннего горя.
Я нахожусь в эпицентре её ухода: медленного, но необратимого.
Иногда у меня опускаются руки.
Иногда я устаю.
Иногда раздражаюсь.
Иногда кажется, что не выдержу.
И тогда я достаю этот текст, читаю, плачу и понимаю:
времени осталось так мало, чтобы сделать для неё всё, что могу.
И даже то, что не могу.
Скоро делать будет не для кого. Только сожалеть.
И у меня появляются силы. Через силу.

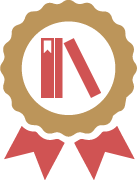











Очень понимаемое.
Близко и по отношению к военным-послевоенным детям и по отношению к весне.
Большинство родственников ушли именно зимой...
Но мама жива. Каждую зиму я провожу в особенной тревоге, беспокойстве и страхе за её жизнь.
В другие времена года как то легче...
Крепитесь, Арина...
Жизнь, она такая... разная...