Замечено, что у людей, перенёсших инсульт, зачастую атрофируется периферическое зрение. Они видят только то, что перед ними, смотрят только вперёд. Нарушается сложный механизм мозга, и глаза оказываются способными лишь к «туннельному» зрению.
Порою мне кажется, что это относится не только к зрению. У души, пережившей потрясение, тоже сужается пространство. Она будто летит только вперёд по туннелю, не воспринимая ничего по сторонам. Или стороннее касается её слабо, не в силах нарушить туннельный полёт.
Вот уже скоро одиннадцать месяцев, как ты покинула этот мир, дорогая Валюша. И не было дня, когда душа моя не летела бы к тебе по туннелю памяти. Не скажу, что думала и тосковала о тебе постоянно — это непозволительная роскошь и упоение печалью, которым могут предаваться только бездельники-мазохисты. Ни тем, ни другим я не являюсь. И всё же…
За последние годы ты была единственным человеком, к которому летело моё сердце, к которому можно было прильнуть, как льнут к тёплой печке, потому что жар её добрый, ровный и спокойный.
В тебе не было ничего «слишком», ничего «полярного». Есть люди, ведущие меня по жизни, есть те, которых веду я. Ты не была ни из первых, ни из вторых. С тобой хотелось просто быть рядом, слушать твоё воркование и смех. И понимать, что рядом с тобой — отдых и счастье.
Мы стояли перед собором Светицховели — самым большим кафедральным храмом Грузии. Сгущались летние сумерки, и в их сиреневом свете лица людей казались совсем чёрными. Ты указала на северную стену храма. Там, на одном из камней, было высечено изображение руки, чертёжного инструмента и надпись:
«Десница раба Божия Арсукидзе».
— Это зодчий храма, — тихо сказала ты. — Запечатлел себя в камне. Оставил память о себе в веках.
Ты тоже запечатлела себя в моём сердце. Ты тоже зодчий…
Но меньше всего я хотела бы вспоминать о тебе с грустью и скорбью. Довольно этого было в прошлом году. О весёлом и светлом человеке надо вспоминать со светом и улыбкой.
Постараюсь. И да поможет мне моё прямое туннельное зрение, летящее к тебе…
[hr]
***
— Ду-ум-бах-буу-мт! — с грохотом вывалились коробки с обувью и одеждой из платяного шкафа. Звук отозвался эхом в стенах старого дома, вырвался в окна балкона четвёртого этажа и напугал последовательно йоркшира Фаню, дворового лохматого пса без имени и соседа Левана из дома напротив. Фанька подскочила и умчалась под кровать в спальню, дворовый пёс протяжно завыл на голубое небо, а сосед Леван поспешно убрал свой большой голый торс с подоконника и закрыл окно.
— Уф-ф-ф, — шумно вздыхает Валя и смеётся. — Так ему и надо, — это в адрес Левана. — Лежит пузом на подоконнике, греет мохнатую спину и думает, что его никто не видит. Вот Фанька, бедная, напугалась — теперь зависнет под кроватью на час. Всякий раз, как я коробки из шкафа достаю, они грохочут, а она боится.
— А зачем столько? — моё любопытство не знает границ.
— Э-э… — отмахивается она. — Это сейчас дом — полная чаша: в коробках обувь и одежда всех мастей. Мой любит прибарахлиться.
«Мой» — это муж. И в трёх этих словах столько нежности и тепла, даже в грубоватом «прибарахлиться», что сомнений не остаётся: муж — единственный, нежно любимый, лелеемый.
— А были времена… ох, вспоминать не хочется…
Но ты всё-таки вспоминаешь. С задорной улыбкой, весёлыми глазами. Наверное, только так и надо вспоминать прошлое. Каким бы оно ни было — плохим или хорошим, — оно уже прошло. И тем и хорошо.
— В девяностые всё подчистую продали, все ценности. Денег ни на что не хватало, — ты достаёшь увесистую резную шкатулку. — Сейчас в ней бумаги, квитанции всякие, — сильные тонкие пальцы перебирают листы, — а раньше были бриллианты…
И, видя моё удивление, добавляешь:
— Самые настоящие, якутские. Свекровь одаривала к каждому празднику. Любила меня, всё повторяла, что ей Бог не невестушку, а золото послал. Золотом и дарила.
— Всё продала… — с улыбкой продолжаешь ты. — Семью надо было кормить. Муж без работы остался, дома свекровь, мои родители — инвалиды, детям надо помогать, на ноги ставить. Вот так всё и ушло, за бесценок. На базар приходила — денег в обрез, так меня мясники гнали: «таким, как ты, мяса вообще не положено». А я лев! По знаку Зодиака. Как это — льву мяса не положено? Где наша не пропадала! Размахнусь бриллиантовым браслетом и продам. Зато на какое-то время в доме были и мясо, и фрукты, и овощи, и молочные продукты. И мне радостно — всех накормила!
Ты достаёшь со дна шкатулки маленькую фотографию. На ней улыбчивая моложавая женщина подхватывает спадающую с плеча шаль. Жест её прост и вместе с тем очень изящен: «в кольцах узкая рука» в скульптурном движении застыла у плеча.
— Узнаёшь? — хохочешь ты. — Это я в сорок лет. Красотка, верно?
Трудно не согласиться. Фотография действительно передаёт редкостную красоту — не смазливость, а изысканность. В твоём облике — хоть на фотографии, хоть в реальности — нет «симпатишности». В нём есть красота.
— А кольцо на пальце видишь? Это «тюльпан». Так называется форма, когда бриллиант поднят высоко на зубцах. Оно было последним. Я его продала, когда первая внучка родилась.
И ты снова улыбаешься. Весело, легко.
«Изумительная лёгкость отказа», — всплывают в памяти строки из письма Марины Цветаевой. Так она характеризовала главную черту характера своей дочери Ариадны — умение мгновенно и легко расстаться с собственными желаниями, если это нужно ближнему.
В тебе тоже была эта изумительная лёгкость отказа. Ты воркуешь о том, что благодаря кольцу в доме было и светло, и тепло, и сытно, и радостно. А кольцо… ну и Бог с ним. Ушло и ушло.
— А глазки у внучки были большущие и ярко-голубые, как звёзды.
Конечно. Все бриллианты мира воплотились и заблистали для тебя в глазах твоей крохотной внучки.
А я смотрю на фотографию. Какая изысканность, какое благородство в осанке, в жесте. Словно запечатлена на ней не женщина из лихих перестроечных девяностых, а загадочная красавица из двадцатых годов прошлого века.
Ты трактуешь мой взгляд по-своему:
— Да ну… Ты что? Я никогда о продажах не жалела. Надо так надо. Лишь бы здоровьем и добром вернулось.
— Нет, я не об этом, просто…
Но ты развиваешь свою мысль:
— Ты по вере мусульманка?
— Я этническая азербайджанка, но не религиозна. Просто верю в Высшее милосердие.
— Ну и правильно. Тогда, наверное, знаешь восточную мудрость: если хлеб лежит высоко и нет ничего, кроме Корана, чтобы подложить под ноги и дотянуться до хлеба, то Коран подложить можно — Бог простит. А вот хлеб подложить под ноги, чтобы дотянуться до Корана, — нельзя. Понимаешь? Согласна?
Мудрость эту я, конечно, знаю. Понимаю. И согласна. Что все бриллианты мира — ничто, когда нужен хлеб…
— Ладно… Зафилософствовались мы с тобой. Сейчас мой благоверный придёт — надо ужин готовить. Ах да… Я же тебе про оленьи дрова обещала рассказать.
Внучка — голубоглазый мой цветочек — оказалась малоежкой. И то ей не это, и это не так. Плевалась всем. И ещё так издевательски: наберёт в рот ложку еды, мы с дочкой уже не знаем, как плясать перед нею от радости, лишь бы проглотила, а она — тьфу! — и всё летит на пол, на стены. Да Бог с ним, что летит, отмою. А вот то, что продукты переводятся, — обидно до слёз. Ну и ребёнка накормить надо хоть как-то. Витамины на неё не действуют. В общем, задача с тремя неизвестными: где купить, на что купить и как накормить. Ах нет — с четырьмя! Ещё и как приготовить.
С газом и светом в Грузии в девяностые была беда. Сидели при керосиновых лампах, на дровяных печах готовили и ими же обогревались. Эти лампы и печи были самым ходовым товаром на барахолках. У вас тоже так было?
…Было, Валюша. Дровяных печей, правда, не помню, а вот керосиновые лампы занимали почётное место на столах — вместо самоваров. С утра по дворам важно выхаживали продавцы керосина и гортанно кричали: «Белая нефть, белая нефть!» Так в Баку называют керосин. Его покупали канистрами, бидонами; за ним, как в послевоенные годы, выстраивались очереди, и терпкий запах окутывал улицы.
— Так вот, внучке только два года исполнилось, капризничает, никак есть не хочет. А я с утра уже сбегала в парк, набрала веточек и щепок, чтобы печь растопить, еду приготовить. Холодно, зима, руки в перчатках застывают. Но дух замирает! Сосны — красавицы: каждая хвоинка в ледяном панцире, как в зелёном хрустале. Так бы стояла и любовалась.
Варила из того, что удавалось найти на рынке, что было по карману. Большей частью — из субпродуктов.
Внучка как увидела тарелку с супом, замахала руками, глаза закрыла, вжалась в стул и сжала губы — мол, режьте, убивайте, а есть не буду!
Я чуть не плачу от отчаяния, и тут мне на помощь пришёл… Кто, как думаешь?
Я молчу. Валечка любит такие крохотные театральные представления. Ей надо насладиться моментом и произведённым на меня эффектом. Пауза выдерживается по Моэму: «Никогда не делай паузу без нужды. А уж если взял паузу, то тяни её сколько сможешь».
Она с наслаждением затягивается сигаретой и выдыхает раздельно:
— Приш-вин!
Глухой звук «п» откатывается в её устах к звонкому «р», тот разбивается о «ш» со звуком волны, бьющейся о скалы, и вновь возрождается к утвердительному, звонкому




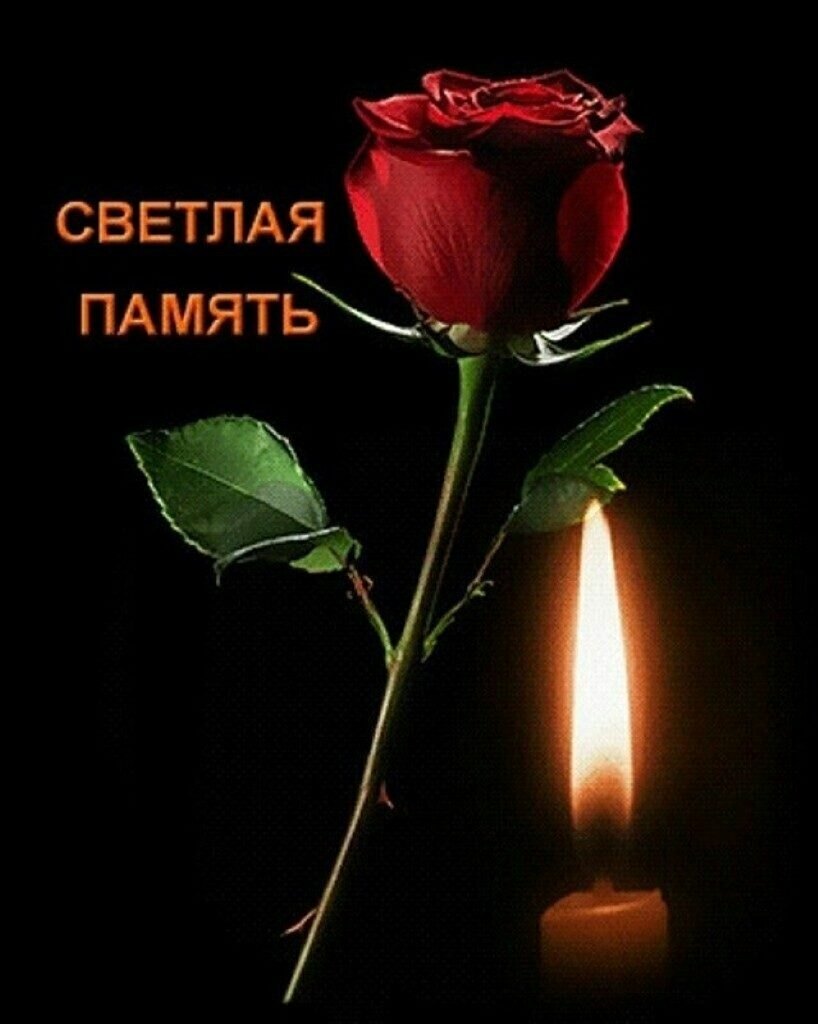






Я, к сожалению, знакома не была, но воспоминания Магдалины и Ваши читала, и всегда думала - какой же светлый должен быть человек, если о нём вспоминают в таком ключе! А ещё говорят, что не бывает женской дружбы. А просто есть такое понятие, как дружба человеческая, это главное!