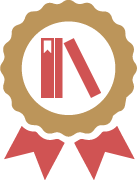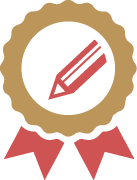Или, обращаясь с вопросом, прибавляли учёное звание:
- Вы говорили, что умлаут характерен для немецкого языка, как представителя западногерманской группы индоевропейской семьи, - начинал какой-нибудь студент из отличников. - Но на днях я совершенно случайно нашёл в библиотеке информацию о том, что в турецком языке тоже есть понятие умлаута. А ведь насколько известно, турецкий входит в тюркскую юго-западную подгруппу. Что же могло стать причиной появления умлаута у таких совершенно разных языков? Как Вы думаете, профессор?
Это считалось нормальным, и даже более уважительным по сравнению с обращением по имени-отчеству. Но выговаривать его было и долго, и для языка неудобно. Поэтому вот уже более двадцати лет в студенческих кругах он оставался «Павлушкой». Шли годы, менялись студенты, незаметно менялся и Павел Панкратьевич. Но мягкое и безобидное «Павлушка» так и осталось за ним. Осталось с незапамятных времён, с той самой поры, как он получил профессорское звание, а вместе с ним и должность заведующего кафедрой немецкой филологии.
Интересным он был человеком. Лёгким в общении настолько, что студентам порой казалось, что они беседуют с кем-то, кто ненамного старше их самих. Бывший спортсмен, он иногда рассказывал про то, как в молодости увлекался боксом. Молодые ребята и девушки покачивали головами, в которых не укладывалось то, что худощавый профессор с неизменным «Паркером» на лацкане пиджака когда-то надевал на руки массивные кожаные перчатки. Ещё сложнее было представить его победителем на ринге. Но иногда Павел Панкратьевич проводил занятия прямо у себя дома (он жил в соседнем от института квартале). И если ему случалось по уважительной причине пропустить занятия в стенах родного ВУЗа, он приглашал студентов к себе домой. И тогда, рассевшись кто на стулья, кто прямо на ковер, они могли видеть дипломы и грамоты, полученные тогда, когда Павел Панкратьевич был ещё совсем молодым. А массивные кубки, которые виднелись через стеклянные дверцы шкафа, гордо подтверждали честность получения этих дипломов. Рассказывая во время занятий о том, что его так захватило в молодости, профессор мог сильно увлечься. И тогда объяснение правил по грамматике сокращалось на пятнадцать минут, а то и на все полчаса. Это было невиданным для других преподавателей, которые дорожили каждой минутой, явлением.
Впрочем, такое отношение к учебному времени было для профессора Мельниченко не характерным. К концу семестра все темы были пройдены. Самые сложные и не поддающиеся пониманию материалы во время практических занятий объяснялись с лёгкостью. На простоту изложения был способен только «Павлушка».
Улыбающийся какой-то то ли полудетской, то ли наивной улыбкой, Мельниченко был всеобщим любимцем второкурсников и третьекурсников. Тех, кого ему доводилось учить, неизменно называл «лапочками» и «зайчиками». Ни один профессор, тем более, зав.кафедрой, не позволял себе такого! Но «Павлушке» прощали всё. Декан факультета при встрече на улице в знак уважения приподнимал шляпу. Ректор, который когда-то сам овладевал немецким языком на занятиях тогда ещё старшего преподавателя Мельниченко, галантно раскланивался, если сталкивался с ним на широкой лестнице. Студенты прилагали максимум усилий, чтобы выучить сложный предмет. Но старались не потому, что он мог понадобиться им в будущем, а потому, что обожали профессора.
Он любил теоретическую грамматику, и, видимо, хотел, чтобы студенты знали её так же хорошо, как он сам. Несмотря на то, что на экзаменах Мельниченко был строг, студенты всегда чувствовали его доброжелательный настрой. Он словно беседовал на интересную тему, незаметно задавая вопросы один за другим. Привычно улыбаясь, он гонял по всему пройденному курсу так, что после экзамена студенты выходили красными и вспотевшими. Покинув аудиторию, они бежали к автомату с газировкой и подобно Шурику из хорошо знакомого всем фильма и выпивали сходу два, а то и три стакана шипучей воды. Но если все круги грамматических мытарств были с достоинством пройдены, и в зачётке появлялась «четвёрка» за подписью зав.кафедрой, это вызывало уважение остальных преподавателей. Всех без исключения. «Раз уж сам Мельниченко поставил Вам «хорошо», меня это обязывает поставить «отлично», - часто слышали студенты, когда отвечали по другим предметам.
«Павлушка» пятёрок почти не ставил. И всё же в студенческой среде обид на него не держали. Довольствовались либо имеющейся четверкой, либо добровольно соглашались на повторные мучения и пытались пересдать теорию немецкой грамматики. Иногда бывало так, что явный претендент на красный диплом, не мог получить пятёрку, как ни старался. Тогда куратор группы лично шёл к профессору в кабинет и беседовал с ним. После этих бесед в зачётке у какого-нибудь условного Иванова всё-таки появлялось заветное «отлично». Но по большому счёту это было не так уж важно. В красном дипломе допускалось иметь пять или даже шесть четвёрок. Поэтому одно «хорошо» на получение диплома с отличием никак не влияло.
***
Мало, кто знал профессора с другой стороны. Но она была, эта сторона.
Павел Панкратьевич даже немного боялся себя другого. Боялся и даже ругал, но поделать ничего не мог.
Всё началось с рождения у дочери первенца. Тогда ещё они жили все вместе, но мужчина, который разменял седьмой десяток, чаще и чаще ловил себя на мысли, что он не испытывает того щенячье-радостного восторга, который характерен для большинства людей, когда их повышают в семейном статусе.
Первой на это обратила внимание супруга, которая была психологом не только по образованию:
- Павел, скажи, ты не любишь Максимчика?
Тогда он смутился, начал бормотать что-то уклончивое. Но обмануть Марию Васильевну было делом сложным. И неожиданно для себя самого он решился:
- Понимаешь, Машенька, ты правильно заметила. Я люблю Максима, но… как бы тебе это сказать…
Павел Панкратьевич помедлил и довёл мысль до конца:
- Я не смогу любить кого-нибудь сильнее, чем Танечку.
Жена продолжала внимательно глядеть на него, и Павел Панкратьевич, полагая, что она ждёт от него дальнейших объяснений, извиняющимся тоном проговорил:
- Молодой был – куличики готов был строить с ней часами. Гулять, купать, кефиром из её любимой чашки поить. Потом, когда подросла, с уроками то и дело ей помогал. Неужели ты не помнишь, Машенька?
- Как не помнить? - отозвалась жена, - на родительских собраниях только ты один из отцов и присутствовал. А к Танюше во дворе приклеилось прозвище «папенькина дочка».
- Да-да, так и было, - радостно закивал Павел Панкратьевич от мысли, что жена поняла его правильно. - Любил дочурку больше жизни, души в ней не чаял… И Максимку должен любить так же сильно, если не ещё сильнее, но… - он тяжело вздохнул – не могу.
- Ну, не могу я! – вдруг закричал он со всей силы и вскочил с табуретки.
- Павлуша, Павлуша, - жена тоже поднялась и схватила его за обе руки, - не кричи. Не нервничай, такое бывает. Подожди, пройдёт время – всё наладится. Мужчины, в особенности, если это отцы взрослых дочерей, иногда трудно отпускают от себя мысль о том, что дочки их сами могут обзавестись детишками. И потом эти детки так же станут взрослыми. Дай срок, всё ещё наладится.
…Когда вот только он придёт, этот срок? Уже пять лет минуло после того разговора. У Тани появился второй сын, она уже давно не жила с родителями, навещая их только по выходным дням. Много, что поменялось в жизни. Не изменился лишь Павел Панкратьевич.
Максим и Илюша, которых привозили только на субботу и воскресенье, не вызывали у него восторженных эмоций, какие неизменно возникали у Марии Васильевны. Единственное, от чего он никогда не отказывался – это от прогулок в парке. Там внуков можно было отпустить побегать, покататься с горки.
Он приветливо махал рукой мальчикам, которые, оказавшись в парке, принимались прятаться друг от друга в деревянных домиках. Улыбался, глядя на детей своей давно ставшей взрослой Танечки, но…
На что-то большее его не хватало.
Он честно отбывал на прогулке ровно два часа. Иногда на обратном пути заходил с ребятишками в магазин и к их радости покупал им самые большие пирожные. Потом возвращался домой – и скрывался в своей комнате. Чаще садился работать над какой-нибудь научной статьей. Просил Марию Васильевну принести ему стакан чая покрепче и углублялся в работу.
Со стороны это могло показаться странным, но он с удовлетворением слушал, как их дом наполнялся детским смехом и визгом. Потом всё стихало – значит, Машенька начинала читать мальчикам их любимую книжку про хомяка Борьку. Или стихи, которые очень любил слушать её любимчик - младшенький Илья. И он, Павел Панкратьевич, ловил себя на мысли, что он всем доволен и даже почти счастлив – но это счастье он мог ощутить только тогда, когда его отделяла от находящихся в квартире домочадцев, толстая кирпичная стена.
Если мальчишки врывались к нему в комнату, он выдерживал их присутствие не больше десяти минут. Больше всего на свете он любил и ценил аккуратность. Его стол всегда бы воплощением порядка, который соблюдался неукоснительно. Профессор сам протирал стол, лампу, стакан с письменными принадлежностями. Расставлял и раскладывал вещи так, как будто это была витрина. Но как только Максим или Илья хватали ручки, передвигали часы или нечаянно ломали тонко отточенные карандаши, на лице Павла Панкратьевича появлялось несчастное выражение.
- Маша! – звал он из комнаты, - возьми детей! Я не могу работать!
Супруга помогала слезть с кресла Илюше и брала Максима за руку. При этом она произносила: «Пойдёмте, мои родненькие. Видите, дедушка занят? Не мешайте ему писать». Дверь закрывалась, в комнате снова становилось тихо. В стакане остывал недопитый чай. Павел Панкратьевич делал глоток, брал ручку и принимался что-то писать размашистым почерком. Слушая детские голоса, которые доносились из-за закрытой двери, он снова улыбался. При этом ловил себя на мысли, что он был вроде как со всеми и в то же время один. Его это устраивало. Он любил свободу.
Он всегда ждал именно понедельника. Представлял, как придёт на работу, как проведёт на кафедре собрание – «пятиминутку». Дальше, как по накатанной дорожке, пойдут занятия со студентами. Если позволит время, он непременно поведает им о чём-нибудь интересном. Последнее время он увлёкся орнитологией, знал названия таких птиц, о существовании которых раньше даже не помышлял. Ему доставляло ни с чем несравнимое удовольствие рассказывать о перелетающих через Атлантический океан полярных крачках. Летящие в Арктику маленькие птички, только в одну сторону преодолевали расстояние около восемнадцати тысяч километров. Внутренняя сила этих птиц одновременно удивляла и восхищала Павла Панкратьевича.
В глубине души он искренне огорчался, что у него не получалось найти правильного подхода к малышам-внукам.
-