из сборника «Мемории»
http://www.proza.ru/avtor/mirzoyan&book=2#2
*
Никогда не просыпал, а тут проспал.
Для киношника – проспать – значит, не своим делом занимаешься.
*
Всё вызванивал N., друга Кайдановского, пытаясь уговорить принять участие в съёмках фильма,
но он, как человек довольно известный – всё юлил, да капризил.
Я уже, было, отказался от него,
как вдруг он позвонил поздно вечером и назначил встречу на завтра, на половину восьмого утра –
я должен был заехать за ним и отвезти на кладбище, к Кайдановскому…
*
… почему в полвосьмого, что делать на кладбище в такую темень?
Ну да ладно - машину заказал на половину седьмого…
*
… и проспал.
Выскочил из дома, не позавтракав…
*
… была нулевая зима – темно и грязно.
- А мне пофигу – смена идёт, деньги капают, - очнулся и зевнул студийный водитель на мои извинения.
*
Я и сам хотел съездить к Кайдановскому.
И привезти ему яблоко.
Почему яблоко – не знаю.
Да где теперь в такую рань взять яблоко? Да ещё опаздываем…
*
… заскочил в ночной магазинчик размером с однокомнатную квартиру в цоколе соседнего дома,
а яблоки там… позор какой-то, а не яблоки, даже неудобно такое яблоко на могилу нести.
Короче – если это яблоки, то я Эйзенштейн и «Броненосец Потёмкин».
Досадно.
И вдруг!… вижу – огромное яблоко – одно, единственное.
И размером чуть не с чайное блюдце. А красивое! Жёлто-красное.
Даже сперва подумал – бутафория, для красоты
- Что это? - невольно спросил у сонной азиатки-продавщицы.
- Какы шыто?.. Иабылака, - не поняла, а потом обиделась она.
Нет, не бутафория – настоящее яблоко!
Купил, сунул в сумку и даже не успел толком удивиться, что оно – единственное и такое красивое!
Поехали.
*
N. вышел из подъезда в коротковатой собачьей шубе,
отутюженных чёрных брючках со стрелками, как лезвия ножей,
деловито размахивая правой рукой в тонкой чёрной перчатке в обтяжку,
второй почему-то держась за живот
и посверкивая в грязно-снежной жиже неестественно лакированными новенькими тоже чёрными летними ботинками.
- Так и знал, что не успеем, - усаживаясь на заднее сидение, раздражённо сказал он,
заполнив салон запахом хорошего мужского одеколона.
*
Куда не успеем, почему не успеем?
Как говорил бард – «в гости к Богу не бывает опозданий» -
а на кладбище, тем более.
Покатили…
*
Было серо и промозгло, как и не собиралось светать
и придачу пошёл мелкий, как манка, колючий снег с дождинками.
Зеленовато-пепельная могила Кайдановского под деревом на углу двух дорожек была укутана печальной тишиной:
две мраморные плиты – одна толще и вторая на ней потоньше, чуть припорошенная.
На закругляющейся Голгофе, в три золотые строки –
Александр Леонидович
КАЙДАНОВСКИЙ
1946 - 1995
и большой, пепельно-зелёный же мраморный православный восьмиконечный крест
с двумя прямыми и короткой наклонной перекладинами –
он крестился в уже зрелом возрасте, греко–католиком и от православия был далёк –
но так захотел один из его друзей.
*
N. присел перед могилой на корточки, положил руку в перчатке на плиту
и я понял – поздоровался.
- Вы цветов-то, конечно, не купили, - укоризненно пробубнил он.
Не успел я ответить, он оглянулся, порывисто встал и куда-то пошёл,
дошёл до мусорного бака неподалёку, порылся, вытащил дохленький букетик искусственных цветов, желтых и красных,
вернулся и положил на тонкий и пористый от дождинок налёт на плите, под крест,
всё время прижимая согнутую левую руку к шубе, словно у него болел живот.
Достать яблоко я постеснялся.
*
Молчали.
N. стоял, как нахохленный воробей в своей шубе и, всё держась рукой за живот, заворожено смотрел на плиту.
Я уже стал подумывать, что у него что-то с рукой
и всё никак не решался достать яблоко…
*
… а N. вдруг стал говорить-говорить-говорить –
и о Кайдановском, и о своей коротковатой шубе, которая оказалась не собакой, а волком,
не отнимая руки от живота и всё, сгибая кисть, поглядывал на часы, чуть не каждую минуту и почему-то озираясь.
Но все эти рассказы - это была бытовуха: жёны-романы, о которых я, конечно, уже прочитал.
Потом, требовательно попросил:
- Только, я вас умоляю – без пошлости – не ворошите его амурные дела!
Говорил про какие-то драки, о которых я тоже слышал –
с одной стороны мне было досадно, что я это не снимаю
и истории эти, не запечатлённые на плёнке, просто растворяются в воздухе, в кладбищенской тиши и тают в небытии,
с другой… мне всё же хотелось другого Кайдановского, мистического,
человека, с которым могли происходить чудеса –
вот яблоко, например…
Впрочем, какого Кайдановского мне тогда хотелось я и сам не знал.
*
- Раз - загуляли в Архангельском… – начал новую историю N., – … это был единственный тогда ночной ресторан в Москве. Потом поехали компанией на двух такси к нему на Поварскую, часа в два ночи. Вылезаем из машин - а у его дома на асфальте – бомж лежит – лето было – грязный весь. Саша подходит к нему – весь такой: в белом плаще до пят, в шляпе: шляпа у него такая была - акубра…
*
… что такое шляпа-акубра я и сейчас не знаю, гуглить лень, но запомнил – слово красивое…
*
- … высокая такая, с широкими полями - звезда уже даже не нашего, советского, а мирового кино – и вонючий синяк на асфальте. Саша подходит к нему:
- Что, брат, хреново тебе?
- Ы-ыы, - еле кивает бомж.
А такси ещё не уехали.
– Жди здесь. Не уходи. Я сейчас достану тебе выпить» - говорит ему Саша, встает и садится обратно в машину, - Поехали!
- Куда, Саш?
- В кабак. Он помрёт сейчас. Надо спасать человека.
- Да зачем ехать - сейчас в такси водки купим?
- Нет, ему надо поесть. Он голодный. Ему надо хорошей еды.
Короче – всей брюзжащей шоблой назад, в Архангельское, а там уже всё закрывается, до трёх, что ли кабак работал. Он ставит там всех на уши – бутылка водки (и чтоб непременно холодная! – бомж же тёплую не будет пить), разные закуски, хлеб (и всё непременно на тарелке! – бомж же не станет есть с газетки), вилка, нож, рюмка, две салфетки – а всё это барахло-то ресторанное, ему его не отдают - он со скандалом всё это покупает, каждую вилку-ножик по цене бутылки коньяка – опять едем на Поварскую.
Бомж уже не лежит, сидит. Саша присаживается перед ним на корточки: белый плащ стелется по асфальту - расстилает перед ним на асфальте салфетку, как скатерть, ставит тарелку с закуской, рюмку, кладёт на вторую салфетку вилку с ножом – короче, обслуживает, как официант.
А мы в сторонке стоим - дамы наши от бомжового запаха носы воротят. Я помню, тогда подумал – так Иисус, наверное, апостолам ноги мыл.
Саша налил ему водки, бомж взял рюмку и вдруг… ни с того, ни сего, Саша, как сидел на корточках, так и вломил ему с правой!...»
N. замолчал…
*
… я ничего не понял.
Он в очередной раз посмотрел на часы:
- А удар у Саши был хороший. Поставленный. Он в молодости боксом занимался. И неплохо. И он – часто руки распускал. Но только – по делу! -
и N. строго уточнил,
- Он терпеть не мог хамства. У него было какое-то обострённое чувство чести и достоинства.
*
... тут я совсем ничего не понял - причём тут честь-достоинство - и синюшный алкаш?
N. как услышал:
- Но тут – бомж, синяк беспомощный, еле шевелится… Оттащили его, увели в комнату, сидит мрачный, злой.
- Да что с тобой, Саша?
Он, возмущённо:
- Я к нему - со всей душой: за ханкой ему съездил, закуски привёз, салфетки, чтоб всё, как у людей. Налил - выпей, говорю, полегчает.
А он мне:
- «А водички – запить – не привёз мне? Забыл?»... Во наглость! Беспредельная! Я перед ним стелюсь - и так, и сяк – а оказывается, я ему, видите ли, водички забыл привезти!
Мне тоже показалось – борзотА. Но кто-то объяснил:
- Саша! Алкоголики не закусывают, алкоголики - запивают. Они уже - есть - не могут.
А он тоже, оказывается, не знал – побежал вниз извиняться. Мы за ним, на всякий случай – асфальт, тарелка с закуской на салфетке стоит, нож-вилка лежат, рюмка пустая стоит, а бомжа и след простыл. Вместе с бутылкой. И почему-то со второй салфеткой», -
закончил N и ехидно спросил, -
- Наверное, хотите, чтоб я это на камеру повторил?
*
… история была непростая, но она меня зацепила,
хоть я ещё и не знал – хочу я её в фильм, или нет –
но подвох и проверку на вшивость почуял.
- Наверное, нет, - уклончиво ответил я.
- А я знал, что вы не клюнете, - с хитрым самодовольством снова глянул N. на часы, – Но потом, небось, воспоминания напишете.
*
… меня это удивило - я тогда никаких воспоминаний не писал и не думал писать –
я кыно сымал, некогда было…
*
- Ладно. Когда помру, тогда и публикуйте, - разрешил N, - Да и Саша, наверное, будет не против – что было, то было. Саша – потом всю жизнь за того бомжа себя винил, простить себе не мог, что человека ни за что ударил – по неведению, ошибся… -
и вдруг, в который уже раз глянув на часы, и опять оглянувшись, не очень добро сказал,
- … и ведь ни одна гнида не пришла…
*
… не люблю резких слов не по делу,
но и не понял, кто такие гниды и почему они должны были придти.
N, снова, как услышал:
- Третье декабря сегодня…
*
… была очередная годовщина, о чём я и не сообразил.
- Может, рано ещё, - тоже оглядываясь и оправдывая не пришедших, возразил я.
- Поздно уже, - мрачно парировал N.
и не отрывая руки от шубы, снова согнул кисть и показал мне часы на запястье:
- Всё. Саша умер… и не всё тут так просто, хоть и третий инфаркт…
*
… это «непросто» насторожило.
(потом он растолковал – но это уже другая история)
С минуту постояли молча.
Холод уже вовсю залез в ботинки, под капюшон и потяжелевшую от дождинок куртку,
а я всё стеснялся достать яблоко.
Да и букетик с помойки меня раздражал…
*
- Стаканов нет? - вдруг спросил N.
Я пожал плечами.
А он куда-то пошёл…
*
… я подумал…
И пока он ходил, я достал яблоко и положил на могилу –
за искусственный букетик, уже весь в бисеринках дождя, чтоб не так бросалось в глаза.
И почему-то стало хорошо, словно я угодил лежащему под плитой.
И даже стало, вроде, теплее…
*
… N. вернулся с двумя пластмассовыми стаканчиками с соседней могилы, мятыми и грязными, засунув в них пальцы в перчатке.
Сказал, - Водка всё убьёт, - сунул мне стаканы в руки
и наконец, открылась тайна его левой руку на животе –
достал из-за волчьей своей пазухи бутылку дешёвой водки…
*
- Надо помянуть…, -
открыл и стал наливать.
Налил по две трети стаканов.
Поставил бутылку на могилу, взял свой стакан,
- Закуски никакой нету?
- Нету.
- И стаканов нет, и закуски нет – непрофессионально, - усмехнулся N. – Саша бы не одобрил, -
поднял свой стакан, -
- Спи спокойно, Сашенька, -
и чуть плеснул на могилу…
*
… выпили…
Закусили слюной…
Ну и нагрел же он водку под своей волчьей шубой, как остывающий чай…
Дрянная, тёплая водка, с утра, натощак, без закуски…
N. весь сморщился, скривился и сдавленно просипел:
- И снегом не закусишь – грязюга… -
стал занюхивать волчьим своим рукавом и вдруг замер…
Замер, как вкопанный, глядя на могилу, словно что-то увидел…
Я не понял, на что он смотрит…
Потом стал судорожно сдёргивать перчатки и рассовывать по карманам:
- А яблоко тут было?
- Нет, - ответил я и не успел ничего больше добавить,
как он метнулся к могиле, схватил яблоко с плиты и стал жадно откусывать…
Потом вспомнил про меня, суетно достал связку ключей из кармана, откромсал ключом кусок от яблока и протянул мне:
- Ешьте, ешьте! Красота-то









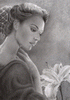


Так тронула сцена с яблочком. Такое впечатление, что сначала N. вёл себя несколько высокомерно, словно какая-то душевная желчь жгла его изнутри, воспоминания его были приземлённы, серы, мало интересны. А потом, как озарение, вот это дивное яблочко. И душа ожила, согрелась дружеским приветом. И как хорошо, что собеседник не стал переубеждать N, что это он принёс яблочко. В конечном итоге, чудо должно таковым оставаться, пусть и сотворено оно самым прозаическим образом. Если мистику разложить на атомы, жить станет совсем неинтересно.