Это был обычный июльский день, золотой и румяный, как только что испеченный пирог. Словно его тоже смазали желтком, перед тем как посадить в печь утреннего солнца. И, рожденный добела раскаленным светилом, день жирно и аппетитно переливался, источая жар.
Помимо цвета, день обладал и остальными органами чувств. В этом он был похож на живое существо. Жара материализовала воздух, время и пространство, и явилось нечто безóбразное, но вполне ощутимое. И имя этому Нечто было – Июль.
Итак, это ощутимое Нечто имело золотисто-румяный цвет.
Пахло нагретой пылью, розмарином и дынными корками.
Звучало звоном цикад, писком ошалевших от жары воробьев, изредка перебиваемого кошачьими воплями. Хвостатые тоже обалдевали от жары.
Имело вкус перезрелых фруктов и железа.
А на ощупь воздух был густым и плотным как туман. Но сотканный не из воды, а из сна. Сон окутывал все: спали дома, прильнув крышами к верхушкам деревьев, спали деревья, истомно разметав ветви, спали машины, тихо передвигавшиеся по размягченному и тоже какому-то сонному асфальту, спали пешеходы, лениво переставлявшие ноги по сухой земле, спали с открытыми глазами торговцы у своих лавок и сам их товар был каким-то сонным, квелым.
Но не везде замерла жизнь в этом июльском сонном царстве. За зеленой оградой, почти скрытой жимолостью, слышался стук костяшек и два голоса. На каменной плите под ивами играли в нарды и вели разговоры двое мужчин – старший и младший. Жизнь стерла разницу лет между ними, и со стороны казалось: беседуют два ровесника. Или рано постаревший сын с очень моложавым отцом. А, нет! Был еще третий. Безмолвный, но очень внимательный собеседник – кошка Бирма. Она лежала тут же на камне, медленно переводя изумрудные глаза с одной костяшки на другую и во взгляде ее читалось: «Ах, как бы мне хотелось прихлопнуть лапой эти смешные маленькие камушки. Но не будет ли зазорно мне, взрослой, уважающей себя кошке, пускаться в столь легкомысленную авантюру? Нет, лучше посплю! Ах, как вы мне все надоели!»
И, широко зевнув, Бирма поворачивалась к игравшим спиной. Те благодушно махали на нее рукой. Младший из мужчин продолжил начатый монолог, и лицо его при этом стало унылым.
– Ни в какую, Барис. Говорит: умру, а в дом мой эта женщина не войдет. Проклинает все на свете, а ее больше всех: кричит, околдовала меня. Такие слова страшные говорит, что еле сдерживаюсь. Не была бы она мне матерью…
– Не хочет мать – откажись, – того, кого звали Барисом, лениво бросил кости. – О, шесть-шесть! Удача! Верно говорю, значит.
– Как отказаться? – у младшего на лице изобразилось такое отчаяние, что старший вздохнул и захлопнул нарды. Бирма недовольно муркнула и скрылась под деревом.
– Обедать пора. Доставай. Что там у нас?.. – Но видя, как у младшего дрожат руки, оттолкнул его, деловито разложил на плите огурцы, помидоры, хлеб, лук и сыр. Не спеша нарезал овощи и сыр, сжал в чугунной ладони половинку лимона, выжал сок, перемешал, полил подсолнечным маслом. Полюбовался сотворенным натюрмортом – ах, как соблазнительно переливался он на солнце!
Потом молча достал из сумки литровую банку жареной картошки, две щербатые тарелки с такими же вилками, с точностью аптекаря отмерил половину банки товарищу, половину себе и жестом пригласил его к трапезе.
Тишину нарушало лишь ленивое свиристенье какой-то птицы и недовольное сопение Бирмы под деревом. Та не могла простить, что ее согнали с плиты.
Младший ковырял еду, нехотя перекатывал за щекой жеваный ком из картошки и салата. Старший ел с аппетитом, но опрятно, и в каждом его движении чувствовались основательность и уважение к пище.
Окончив есть, он неторопливо ополоснул тарелки, чем еще больше разочаровал дремавшую Бирму – вода от помывки пролилась на нее. Но Барис оставил кошачью обиду без внимания, видно, придерживаясь убеждения, что Бирма – женщина, а женщины дуются недолго.
Так же размеренно он извлек из сумки термос.
– По жаре чай – первое дело! Этому меня в армии приучили, в Коканде. Холодно – чай, жарко – чай, очень жарко – много чая! Пей!
И придвинул младшему розовую кружку.
– Внучка подарила – от сердца оторвала! – щель рта растянулась в улыбке. – Смешная такая! Притащила кружку, пальчиком показывает, что от ручки кусок отломился и вздыхает так тяжело: «Деда, это тебе! Она поломатая, мне не нужно, пусть будет твоя!» И убежала. А потом вернулась и серьезно так: «Ты ее бейеги, это моя юбимая». И опять убежала.
– Не хочу! – вдруг выкрикнул младший. Крик получился слабый, так – отчаянный протестный писк.
– Не кричи, – посуровел старший. Что на пустом месте горло драть? Нашел тоже проблему с неизвестными. Все известно! Мать не хочет твою – лучше сразу отказаться. Не морочь женщине голову. Мать у тебя добрая, хорошая, хозяйка отличная, но – он обвел воздух ладонью, а потом крепко сжал кулак – она Хозяйка. Если что не по ней – жизни вам не будет. И ты знаешь это. Мать ты не переменишь, и не выбросишь, а жизнь и себе, и женщине испортишь.
– Вию-ю-юр-р-р! Фш-ш-ш, – раздались резкие звуки, и тут же с ивы вспорхнула птица, а за ней тенью метнулась Бирма.
– Охотница, – удовлетворенно крякнул Барис, – все бабы такие!
– Но, – у младшего взмок лоб, и взгляд стал жалким, прозрачным.
Барис смягчился.
– Что «но»?.. Когда любят – решают и делают! А раз думаешь, что кто скажет – сомневаешься. Сомнение в этом деле хуже кислоты. Каждое слово душу разъест. А люди слабину чувствуют и еще больше норовят куснуть. Вот у меня с именем что вышло, – он отхлебнул из чашки и смачно разгрыз сахар, – родители Борисом назвали, а в метрике записали неправильно – Барис, и поменять не удосужились. Так и прожил Барисом до шестнадцати. Все хором кричали: «Будешь паспорт получать – имя правильно запиши. А я не стал. Зачем? Все меня Барисом знали, в детсад с этим именем, в школу, друзья так зовут. Имя меня не обидело, я его тоже. И не поменял. Ни минуты не сомневался, что менять не надо. Нет, ты посмотри, что эта негодница творит, – это было обращено к кустам, откуда вылезла встрепанная Бирма с птичьим пером в зубах. – Ничего не боится! Знает, что ей надо охотиться – и охотится!
– Так ведь мать же, – по лицу младшего было видно, что раздумья даются ему мучительно.
– Так я и говорю, – безмятежно отозвался старший, и голос его улетел в ивы. – Женщин много, мать – одна.
– Но я, но мы… любим друг друга, – пролепетал совсем сбитый с толку младший.
Барис сделал вид, что не слышит, надвинул кепку на лицо, вдавился в раскладной стул и задремал. Июльское солнце переливалось в чашке с недопитым чаем. Бирма выпустила из зубов ненужное перо, грациозно вспрыгнула на плиту и принялась наводить красоту. Уложив шерсть, она вытянула лапы и прикрыла глаза. Птица тоже примолкла, то ли из опаски (мало ли что кошке вновь придет в голову), то ли всепобеждающий полуденный сон сморил и ее.
Младший оглянулся. Тишина окутывала все. Душная хмара нависла клоками на соснах, стлалась по земле.
– Да, ну… – негромко выругался он, – не здесь же об этом говорить.
– Почему? – раздался сиплый голос из-под кепки. – Как раз здесь и говорить об этом. О любви, о жизни. Только здесь начинаешь ценить и то, и другое. Выбор правильный делать. Они тебе сказали то же самое, – он махнул рукой в воздух, – если бы могли.
Июльский день скользнул по деревьям, позолотил серый сухой песок, ровные плиты, взметнулся выше к полукруглой надписи над воротами: «Городское кладбище № 3» и окончательно ушел в закат.
Барис сдвинул кепку и подмигнул Младшему.
– Ну, пора нах хаус! Вот и отдохнули сегодня! Не каждый день такой пустой. Иной раз как пойдут чередой – только успевай копать.
– Много? – угрюмо поинтересовался Младший.
– Хватает. Ты у нас пока новичок – привыкнешь. Сторожем здесь быть поначалу как-то не так, а потом ничего. Работа не хуже прочих. Собирайся, чего встал? С Бирмой заночевать собрался? Она против не будет!
Бирма навострила уши и муркнула.
– Видишь – согласна! Будете нежиться под ивами. А, что? «Дремлют, плакучие ивы, низко склонясь над ручьем», – затянул он негромко. – Ну, шевелись!
Из ворот 3-го городского кладбища неторопливо вышли два человека, и закатное июльское солнце светило им вслед. Бирма осталась спать под ивами. Ей было хорошо, сытно и спокойно. Она знала, что скоро ночь накроет землю прохладными крыльями, и ничто не потревожит ее сон до самого утра, когда снова придут два сторожа, разложат нарды и нехитрую снедь на плите и будут вести разговоры за жизнь.
Помимо цвета, день обладал и остальными органами чувств. В этом он был похож на живое существо. Жара материализовала воздух, время и пространство, и явилось нечто безóбразное, но вполне ощутимое. И имя этому Нечто было – Июль.
Итак, это ощутимое Нечто имело золотисто-румяный цвет.
Пахло нагретой пылью, розмарином и дынными корками.
Звучало звоном цикад, писком ошалевших от жары воробьев, изредка перебиваемого кошачьими воплями. Хвостатые тоже обалдевали от жары.
Имело вкус перезрелых фруктов и железа.
А на ощупь воздух был густым и плотным как туман. Но сотканный не из воды, а из сна. Сон окутывал все: спали дома, прильнув крышами к верхушкам деревьев, спали деревья, истомно разметав ветви, спали машины, тихо передвигавшиеся по размягченному и тоже какому-то сонному асфальту, спали пешеходы, лениво переставлявшие ноги по сухой земле, спали с открытыми глазами торговцы у своих лавок и сам их товар был каким-то сонным, квелым.
Но не везде замерла жизнь в этом июльском сонном царстве. За зеленой оградой, почти скрытой жимолостью, слышался стук костяшек и два голоса. На каменной плите под ивами играли в нарды и вели разговоры двое мужчин – старший и младший. Жизнь стерла разницу лет между ними, и со стороны казалось: беседуют два ровесника. Или рано постаревший сын с очень моложавым отцом. А, нет! Был еще третий. Безмолвный, но очень внимательный собеседник – кошка Бирма. Она лежала тут же на камне, медленно переводя изумрудные глаза с одной костяшки на другую и во взгляде ее читалось: «Ах, как бы мне хотелось прихлопнуть лапой эти смешные маленькие камушки. Но не будет ли зазорно мне, взрослой, уважающей себя кошке, пускаться в столь легкомысленную авантюру? Нет, лучше посплю! Ах, как вы мне все надоели!»
И, широко зевнув, Бирма поворачивалась к игравшим спиной. Те благодушно махали на нее рукой. Младший из мужчин продолжил начатый монолог, и лицо его при этом стало унылым.
– Ни в какую, Барис. Говорит: умру, а в дом мой эта женщина не войдет. Проклинает все на свете, а ее больше всех: кричит, околдовала меня. Такие слова страшные говорит, что еле сдерживаюсь. Не была бы она мне матерью…
– Не хочет мать – откажись, – того, кого звали Барисом, лениво бросил кости. – О, шесть-шесть! Удача! Верно говорю, значит.
– Как отказаться? – у младшего на лице изобразилось такое отчаяние, что старший вздохнул и захлопнул нарды. Бирма недовольно муркнула и скрылась под деревом.
– Обедать пора. Доставай. Что там у нас?.. – Но видя, как у младшего дрожат руки, оттолкнул его, деловито разложил на плите огурцы, помидоры, хлеб, лук и сыр. Не спеша нарезал овощи и сыр, сжал в чугунной ладони половинку лимона, выжал сок, перемешал, полил подсолнечным маслом. Полюбовался сотворенным натюрмортом – ах, как соблазнительно переливался он на солнце!
Потом молча достал из сумки литровую банку жареной картошки, две щербатые тарелки с такими же вилками, с точностью аптекаря отмерил половину банки товарищу, половину себе и жестом пригласил его к трапезе.
Тишину нарушало лишь ленивое свиристенье какой-то птицы и недовольное сопение Бирмы под деревом. Та не могла простить, что ее согнали с плиты.
Младший ковырял еду, нехотя перекатывал за щекой жеваный ком из картошки и салата. Старший ел с аппетитом, но опрятно, и в каждом его движении чувствовались основательность и уважение к пище.
Окончив есть, он неторопливо ополоснул тарелки, чем еще больше разочаровал дремавшую Бирму – вода от помывки пролилась на нее. Но Барис оставил кошачью обиду без внимания, видно, придерживаясь убеждения, что Бирма – женщина, а женщины дуются недолго.
Так же размеренно он извлек из сумки термос.
– По жаре чай – первое дело! Этому меня в армии приучили, в Коканде. Холодно – чай, жарко – чай, очень жарко – много чая! Пей!
И придвинул младшему розовую кружку.
– Внучка подарила – от сердца оторвала! – щель рта растянулась в улыбке. – Смешная такая! Притащила кружку, пальчиком показывает, что от ручки кусок отломился и вздыхает так тяжело: «Деда, это тебе! Она поломатая, мне не нужно, пусть будет твоя!» И убежала. А потом вернулась и серьезно так: «Ты ее бейеги, это моя юбимая». И опять убежала.
– Не хочу! – вдруг выкрикнул младший. Крик получился слабый, так – отчаянный протестный писк.
– Не кричи, – посуровел старший. Что на пустом месте горло драть? Нашел тоже проблему с неизвестными. Все известно! Мать не хочет твою – лучше сразу отказаться. Не морочь женщине голову. Мать у тебя добрая, хорошая, хозяйка отличная, но – он обвел воздух ладонью, а потом крепко сжал кулак – она Хозяйка. Если что не по ней – жизни вам не будет. И ты знаешь это. Мать ты не переменишь, и не выбросишь, а жизнь и себе, и женщине испортишь.
– Вию-ю-юр-р-р! Фш-ш-ш, – раздались резкие звуки, и тут же с ивы вспорхнула птица, а за ней тенью метнулась Бирма.
– Охотница, – удовлетворенно крякнул Барис, – все бабы такие!
– Но, – у младшего взмок лоб, и взгляд стал жалким, прозрачным.
Барис смягчился.
– Что «но»?.. Когда любят – решают и делают! А раз думаешь, что кто скажет – сомневаешься. Сомнение в этом деле хуже кислоты. Каждое слово душу разъест. А люди слабину чувствуют и еще больше норовят куснуть. Вот у меня с именем что вышло, – он отхлебнул из чашки и смачно разгрыз сахар, – родители Борисом назвали, а в метрике записали неправильно – Барис, и поменять не удосужились. Так и прожил Барисом до шестнадцати. Все хором кричали: «Будешь паспорт получать – имя правильно запиши. А я не стал. Зачем? Все меня Барисом знали, в детсад с этим именем, в школу, друзья так зовут. Имя меня не обидело, я его тоже. И не поменял. Ни минуты не сомневался, что менять не надо. Нет, ты посмотри, что эта негодница творит, – это было обращено к кустам, откуда вылезла встрепанная Бирма с птичьим пером в зубах. – Ничего не боится! Знает, что ей надо охотиться – и охотится!
– Так ведь мать же, – по лицу младшего было видно, что раздумья даются ему мучительно.
– Так я и говорю, – безмятежно отозвался старший, и голос его улетел в ивы. – Женщин много, мать – одна.
– Но я, но мы… любим друг друга, – пролепетал совсем сбитый с толку младший.
Барис сделал вид, что не слышит, надвинул кепку на лицо, вдавился в раскладной стул и задремал. Июльское солнце переливалось в чашке с недопитым чаем. Бирма выпустила из зубов ненужное перо, грациозно вспрыгнула на плиту и принялась наводить красоту. Уложив шерсть, она вытянула лапы и прикрыла глаза. Птица тоже примолкла, то ли из опаски (мало ли что кошке вновь придет в голову), то ли всепобеждающий полуденный сон сморил и ее.
Младший оглянулся. Тишина окутывала все. Душная хмара нависла клоками на соснах, стлалась по земле.
– Да, ну… – негромко выругался он, – не здесь же об этом говорить.
– Почему? – раздался сиплый голос из-под кепки. – Как раз здесь и говорить об этом. О любви, о жизни. Только здесь начинаешь ценить и то, и другое. Выбор правильный делать. Они тебе сказали то же самое, – он махнул рукой в воздух, – если бы могли.
Июльский день скользнул по деревьям, позолотил серый сухой песок, ровные плиты, взметнулся выше к полукруглой надписи над воротами: «Городское кладбище № 3» и окончательно ушел в закат.
Барис сдвинул кепку и подмигнул Младшему.
– Ну, пора нах хаус! Вот и отдохнули сегодня! Не каждый день такой пустой. Иной раз как пойдут чередой – только успевай копать.
– Много? – угрюмо поинтересовался Младший.
– Хватает. Ты у нас пока новичок – привыкнешь. Сторожем здесь быть поначалу как-то не так, а потом ничего. Работа не хуже прочих. Собирайся, чего встал? С Бирмой заночевать собрался? Она против не будет!
Бирма навострила уши и муркнула.
– Видишь – согласна! Будете нежиться под ивами. А, что? «Дремлют, плакучие ивы, низко склонясь над ручьем», – затянул он негромко. – Ну, шевелись!
Из ворот 3-го городского кладбища неторопливо вышли два человека, и закатное июльское солнце светило им вслед. Бирма осталась спать под ивами. Ей было хорошо, сытно и спокойно. Она знала, что скоро ночь накроет землю прохладными крыльями, и ничто не потревожит ее сон до самого утра, когда снова придут два сторожа, разложат нарды и нехитрую снедь на плите и будут вести разговоры за жизнь.







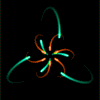



 .
. 





