Дождь шёл четвёртые сутки. Не переставая. Это был не задорный осенний ливень, а нудная моросящая сплошная серая пелена. Лёнька злился на погоду. А что толку от его злости? Шинель становилась всё тяжелее, в сапогах хлюпало. Хуже всего было ночью – мокрая шинель, мокрая земля, сколько ни окапывайся, мокрый воздух. Костры разводить нельзя, чтобы противник не обнаружил. И даже сильная усталость не давала заснуть в этой вечной мокроте. А в коротком забытье виделась большая комната, печь, в которой не было дров, вернее, они были, но сырые и не хотели разгораться, поэтому согреться не удавалось. Хорошо, ещё осенние заморозки не ударили, а то примёрзли бы мокрые шинели к земле…
Лёньке иногда хотелось просто никуда не идти. Кому скажи, что в бою легче, чем этот марш-бросок в мокрой пелене, так ведь не поверят. Поймут его только те, кто рядом шагал.
Они шли и шли. Передислокация. Что-то верхнее командование переиграло, им невдомёк, а приказ – есть приказ. Приказы не обсуждаются. Дорога, хоть и просёлочная, но довольно ровная.
– Хорошо, хоть не чернозём, как у нас дома-то, а то бы и сапоги оставили в нём. А тута просто мокро, – подбадривал сержант Перегудов. На коротких привалах любил он вспоминать о своей деревне. И о начале войны. – Вот представь, рядовой Мякишев, если бы ты ногу поставил, а она провалилась, как в тартарары, ты ногу-то достал, но уже без сапога. И рукой не поймаешь сапог-то, как трясина засосал чернозём. Мы такое проходили в перву осень-то. Ничё, выжили как видишь. И болезни-то все разбежались. А туточки скоро война-то закончится, ещё малёхо – и к границе подойдём. Наши-то уже и через границу воюють.
– Как думаете, товарищ сержант, до самого Берлина дойдём? – обязательно кто-нибудь спрашивал.
– А што, кто-то сумневается? Попомните моё слово-то: следующий год победный, – улыбался сержант и кого-нибудь ободряюще хлопал по плечу. – И там нас хлебом-солью встречать будуть, понимають же, что мы им мир несём. Каюк фашизму-то.
Лёнька хмыкнул про себя. Вроде они ещё на своей территории, а хлебом-солью никто особо не встречает, наоборот даже – иногда ловил на себе не очень дружелюбные взгляды местных, которые вроде бы и советские, а по-русски не все понимают.
Политрук объяснил: войска Прибалтийского фронта вышли на подступы к Риге южнее их главной реки. Но там наши встретили сильное сопротивление противника. Ставка приняла решение о перенесении главного направления удара на другое направление, чтобы сохранить как можно больше жизней советских солдат. Была произведена перегруппировка сил в районе города со смешным каким-то, трудно произносимым названием – Шяуляй. Больше ничего рядовому составу не было известно, только то, что главный удар будет в другом месте. Вот и шли они четвёртые сутки по серой литовской мороси.
С одной стороны дороги чисто поле, с другой – лес. Откуда вдруг выскочили чудовища-танки с проклятыми крестами, Лёнька так и не понял. Разведка и у врага работала неплохо. А что у них против танков? С автоматом против танка не попрёшь.
– Ну-ка, пехота, все в лес! – скомандовал сержант Перегудов. – Умереть всегда успеем, а нам до Берлина дойти надоть. Бессмысленная смерть-то не нужна никому, это не геройство.
Лёнька видел, как горели грузовики. Артиллерия развернула пушки, пару танков подбили, но враг тут явно был сильнее, к тому же фактор неожиданности. Снаряд взорвался совсем рядом, и Лёнька увидел, как прямо на дорогу упали его товарищи, превратившись в кровавое месиво. Как в ступоре находился рядовой Мякишев, пока чья-то сильная рука не схватила его за плечо.
Они бежали по лесу, который ещё не успел обнажиться. Долго слышен был грохот. Когда всё стихло, Лёнька пришёл в себя и посмотрел вокруг. Рядом с ним рядовой Василий Кузнецов пытался зажать плечо, вся, и так мокрая, шинель пропиталась тёплой кровью. Лёнька сел, облокотившись на ствол дерева. Он растерялся.
– Вася, ты как? Идти сможешь? – спросил у товарища.
– Не знаю, Лёня, надо бы рану перевязать. Сможешь?
– Перевязать смогу, у меня и бинт есть. А вот антисептика нет. И где все? Вроде не только мы побежали.
– Зачем побежали? Струсили, вот зачем. Как в глаза людям после этого смотреть, – тяжело вздохнул Василий.
Лёня помог товарищу снять мокрую шинель, оторвал рукав гимнастёрки. Рана была неглубокой, надо бы только кровь остановить, пришлось промыть водой из фляжки. «Надо же, – подумал Лёнька, – кругом вода, да не та…» Когда предплечье перебинтовали, с трудом натянули тяжёлую шинель. Надо было куда-то идти. Кругом лес. Вдруг скрипнула ветка, Лёнька ещё даже испугаться не успел, как перед ними предстал сержант Перегудов.
– Ну что, рядовые Мякишев и Кузнецов? Живы – это уже хорошо. Не нашёл больше никого, то ли по лесу рассыпались, то ли поубивало. А нам надоть пробираться к своим.
– Где они, свои? – рядовой Кузнецов говорил зло. – Если к своим, то под трибунал наверняка. Струсили же, товарищей оставили. Никогда себе не прощу.
– Да ладно, Вась. Что мы могли? А так, глядишь, повоюем ещё, – Лёнька пытался сам поверить в свои слова.
После короткого отдыха двинулись, пытаясь определить, где нужное направление.
– Эх, хоть бы на чуток солнце-то выглянуло, – сетовал сержант. – Мы бы мигом сориентировались. Вы, главное, не унывайте, я карту-то видел, лес тута небольшой, не то, что наши леса-то. Будем идтить в одном направлении – обязательно куда-нибудь выйдем.
Когда стемнело, бойцы остановились на ночлег, поужинали остатками доппайка. Место для ночёвки нашли во мху. Не спалось. Так хотелось снять мокрую шинель…
– Рядовой Кузнецов, где война-то застала? – решил сержант вызвать солдат на разговор.
– Я из Севастополя. Красота у нас там, тепло, солнечно. С начала войны там не был. Мы с отцом сразу добровольцами на фронт. О маме с сестрёнкой долго ничего не знали. Не эвакуировались они. А в мае после ранения получил кратковременный отпуск – и к своим. Дом наш уцелел, а вот мама до освобождения города не дожила, – Василий горестно вздохнул и продолжил. – Сестрёнку соседка к себе забрала. Там в отпуске и «похоронку» на отца получил, он и не узнал о смерти жены. Мне помирать никак нельзя. Уезжал, так сестрёнка в голос плакала.
Помолчали, переживая рассказ Василия.
– А ты откель, рядовой Мякишев? – спросил сержант.
– Я питерский. Меня двоюродная бабка ещё до того, как сомкнули фрицы кольцо, вывезла в Сибирь. Мне пятнадцать было. Работал на заводе. Хотел школу окончить, но как восемнадцать исполнилось, призвали. Родители, сестра в блокаду мыкались. Отец от голода помер, а сестра с матерью выжили. Но я их ещё не видел, только письмо получил. А три старших брата воюют.
Лёнька подумал, что на фронт он совсем не рвался. Ничего героического в нём не было. Но призвали – куда деваться. Скоро год будет, как воюет.
– Знать, городские вы, ребята. А я из деревни, агрономом-то работал. Мне отсрочку давали, но я ить отказался от отсрочки-то. Баба моя с детишками в оккупации осталась. Хату-то вражины сожгли, так она к партизанам подалась. Боевая жинка у меня. А детишек-то трое… все сыны. Растут без батьки. Эх…
Лёнька не заметил, как провалился в тревожный сон.
С рассветом опять пошли. Лёнька ступал, еле переставляя ноги. Василия шатало, видимо, рана воспалилась. И только сержант казался бодрым.
Вдруг Лёнька услышал какой-то странный звук, писк, такой знакомый – из мирной жизни.
– Смотрите, котёнок!
Лёнька взял на руки маленький пушистый полосатый комочек, прижал к себе, и как будто тепло разлилось то ли от маленького тельца, то ли от воспоминания о мирной жизни.
– Брось ты блохастика, – проворчал Василий. – Самим жрать нечего.
– Стоп, ребята! Котёнок-то далеко в лес уйтить не мог. А что это значить? А это значить, что жильё где-то рядом, – ободряюще проговорил сержант. – Только осторожно, надо будет понаблюдать, нету ли там фрицев-то.
И действительно, вскоре маленький отряд вышел к хутору. Тихо подойти не удалось – заливисто залаяли собаки.
К калитке подбежала девчушка лет пяти. Лёнька протянул ей котёнка.
– Твой?
Девчушка кивнула и взяла любимца, радостно засмеялась, приговаривая: «Кацикас, кац-кац, Тигра».
– Юстина! – к девчушке со всех ног бежала молодая женщина. Прижала к себе девочку и во все глаза уставилась на непрошенных гостей.
– Не пугайтесь, мы свои. Понимаешь по-русски? – женщина кивнула. – Немцев здесь нет? – Она отрицательно помотала головой. – Нам бы передохнуть, обсохнуть и дорогу узнать. Как звать-то?
– Велта.
[justify]Жестом пригласила войти, провела в дом. Лёнька огляделся. Дом просторный, в




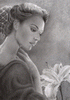












И всех жалко... И у всех своя выстраданная правда.
Хорошо написано. И рассказ потрясающий.