и хлебом тоже. Не небом единым жив человек, но и небом тоже! Вся наша жизнь – канатная веревка по которой мы балансируем между дольним и горним. И надо удержаться на этой веревке, между физикой и метафизикой, тогда ты гармоничный человек. Вы понимаете меня? Впрочем, это не важно, потом поймете.
Понять было нелегко, но мы согласно кивали, что, да, мол, потом уразумеем!
Такие речи продолжались минут двадцать. После чего Лев Захарович уставал и начинал говорить тише, будто вглядывался на дно души. И речь его менялась, становилась проще и задушевнее, исчезало все выспреннее.
- Моя мама была святая женщина. Берегите мам, дети, вторых мам не будет никогда. Только я не понимал, что она святая. А сейчас понимаю и мне стыдно. Он в 29 лет осталась с тремя маленькими детьми на руках. Отца не стало еще до войны. А нас у мамы пятеро было, но двое умерли в младенчестве. И вот остались мы у нее – я, брат младший и сестра. Я у нее любимчиком, она всегда меня больше жалела, Львеночком рыжим и солнышком называла. Это я сейчас лысый, а раньше был рыжим, волосы густые, кудрявые! Эх…
А сколько ее сватали, после отца, мамочку мою. А что не сватать: и красавица, коса в руку толщиной, глаза как огонь, а талия тоненькая, и это после пяти детей! И работница – золотые руки. Все в доме делала сама, любое дело спорилось. А я в штыки встречал, когда кто-то к нам свататься приходил. Мама из-за меня всем отказывала. Так замуж и не вышла. А сейчас я жалею, Бог мой, как жалею! Она ведь молодая была, жить бы да радоваться! А всю себя в нас вбила, так и состарилась. А что мы? Разлетелись каждый в свою жизнь, меня вот вообще в другой город, сюда занесло. А мамочка в семье сестры доживала. А при зяте какое житье? Да еще, если и его мама с ними вместе живет? Вот, и получается, что мамочка моя ни одного дня не пожила как душе хочется. - Лев Захарович замолкал и теребил уголок грязного платка.
А, когда отдыхала, любила смотреть на эту картину, - продолжал он и взмахивал рукой на стену. ВЫрезала из какого-то журнала, поставила за стеклом и все наглядеться не могла. Бумага журнальная совсем истрепалась, выцвела, а она не разрешала никому дотрагиваться. Это я уже потом купил хорошую репродукцию и вставил в рамку.
А Чехов? Это, считайте, ему я обязан всем, что знаю. Только Антон Павлович здесь как бы не при чем. Все мама. Она хоть и грамотная была, но просила, чтобы ей читали вслух. Да и то сказать, когда было ей читать: все время в работе, дома дела не кончаются.
И очень любила рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда». Уже наизусть его знала, а все равно, затаив дыхание слушала. И всякий раз нам повторяла: «Вот, смотрите, как человек только под старость понял, что всю жизнь прожил в убытках. Никому доброго слова не сказал, жену истязал, попрекал куском хлеба, даже чай пить запретил, потому что считал – чай дорогой, и пила жена только горячую воду. А сам пил горькую, скандалил, кидался на всех с кулаками, а жизнь так и прошла и ничего уже не поправишь, и так много потеряно. А все потому, что человек делает не то, что нужно. Вместо того, что сказать другому доброе слово, норовит обидеть, обмануть. Вместо того, чтобы учиться и приносить пользу, мусолит злобные сплетни, ненавидит и злится. Кому нужна такая жизнь? Одни сплошные убытки. Вот живите так, чтобы у вас их не было.»
И так часто она нам это повторяла, что я понял: «А ведь правда, есть потери, которые ничем не поправишь».
Мы – народ практичный, добро на ветер швырять не привыкли. Так зачем я буду трепать свое сердце на злобу и ненависть, если можно его с пользой употребить? Зачем мне пустота и темнота, если я могу зажечь свет в храме своей души? - снова съезжал на выспренний тон Лев Захарович. - Зачем мне глупые разговоры, если всякий раз можно узнать что-то новое? Я Вас спрашиваю – зачем? Есть в этом какой-то смысл? Нет?! А зачем же тратить свое время на бессмыслицу?! Никакой экономии в этом я не вижу! Нет, вы мне возразите, если имеете что возразить! Я рад вас выслушать. Но, если не имеете, так сидите и слушайте старого человека, который все ж таки, что-то понял в этой жизни!
Лев Захарович расходился не на шутку, и здесь надо было поймать тот нужный момент, когда он еще не дошел до стадии кипения. Именно в этот момент надо было вставить робкое «Простите, Лев Захарович, мама ждет» и ретироваться. Слово «мама» было для него священным, он сразу же обмякал и торопливо говорил: «Да, беги, беги, что же ты раньше не сказал? Мама же волнуется! Вот я старый осел!».
Но, если точка кипения была пройдена, то никакая мама не помогала. Лев Захарович произносил свои филиппики о том, что, ученье – свет, а неученье -тьма с таким пылом и жаром, что сам Цицерон ему в подметки не годился! Тут уже не то, что фразу вставить, пискнуть бы не получилось! Старик блистал красноречием и пауз в речи не допускал.
- Память человеческая как затонувшая Атлантида, - гремел он и был похож в эти минуты на библейского Саваофа, - все глубоко под толщей лет, и все живо, стоит только вглядеться получше…
…Мы вспомнили эти слова, когда наша улица с ее четырьмя достопримечательностями тоже стала затонувшей Атлантидой. Глубоко-глубоко на дне нашей памяти или любви колыхалась она. Робко всплывала в наших снах в предрассветные часы так ясно, так живо. Наша родная улица с ржавой трубой, пересекавшей ее около магазина «Тысяча мелочей», рыжим котом Жоржем, бельевой веревкой с пикантным трофеем и самим магазином «Тысяча мелочей».
И бессменным его продавцом Львом Захаровичем, влюбленным в Чехова и Куинджи и научившего нас не размениваться на убытки в этой жизни.
«Потому как убытки – зряшное дело, никакой экономии в этом нет и быть не может…»


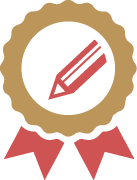














 (жалость безмерная!). В лучшем случае глаза ограничились обзором спортивных брюк. Ну, и то ладно.
(жалость безмерная!). В лучшем случае глаза ограничились обзором спортивных брюк. Ну, и то ладно.  . «У ребёнка даже нет любимого древнегреческого мифа!» - как раз в этот момент два брата на улице спорили, кому вперёд играть в любимую компьютерную игру. Вот такое совпадение. O, tempora, o, mores!
. «У ребёнка даже нет любимого древнегреческого мифа!» - как раз в этот момент два брата на улице спорили, кому вперёд играть в любимую компьютерную игру. Вот такое совпадение. O, tempora, o, mores! 




Чтобы ценить и быть благодарным тому времени, и тем событиям, которые вы,
Ляман, блистательно описываете, надо видеть и понимать всю грязь сегодняшних дней, навязываемых нашей стране,
через неопытную и малообразованную молодежь, покупая их души.
Нельзя не видеть, как стремятся нас деморализовать и заставить жить по разрушающим законам.
Именно в сравнении с днем сегодняшним, еще чувствительнее воспринимается экскурс в те времена,
когда духовное начало превышало потребительское.
Мне, как человеку далеко неравнодушному,
к тому, что происходит с моим народом (особенной молодежью) и страной в целом,
ваше произведение особенно дорого и близко по духу.