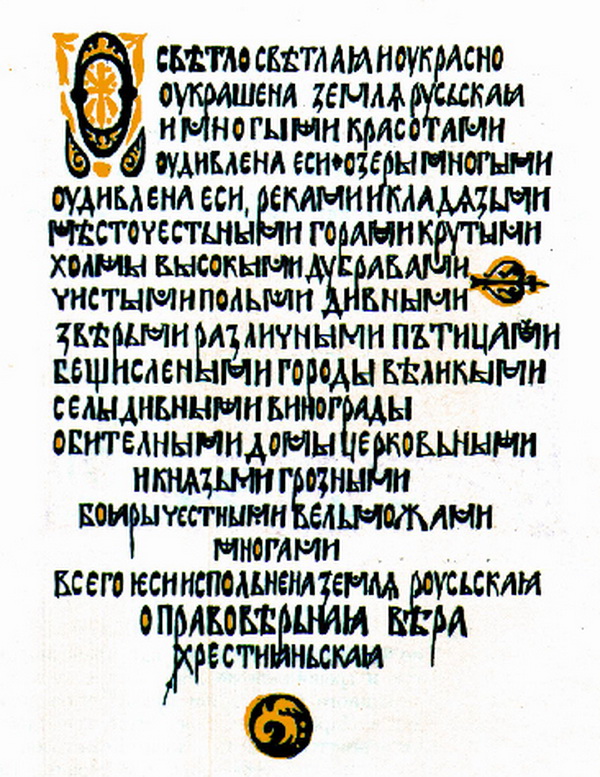русским, богом не дано ассимилироваться. Мы выживем везде, но никогда не станем американцами, немцами, французами. Мы научимся говорить как они, выживать в мире кредита и рынка. Очень часто лучше и успешнее, чем местные. Но никогда успешному американцу на пике финансового благополучия не придет в голову острая, непонятная, русская мысль – «да пошло оно все…» И нам самим непонятно, что пошло, куда пошло, зачем… Просто к черту. В школе мы учили отрывок из «Мертвых душ» про русскую тройку. Летит она черт знает куда, и сторонятся страны и народы. А куда летит, никто не знает. Ни ямщик, ни лошади, ни автор. Потому и пугают весь мир русскими. Не оттого, что реально за жизнь свою боятся страны и народы, а оттого, что непонятно куда она летит тройка эта, оттого, что сама Россия не всегда понимает, или всегда не понимает, куда ее несет сразу во все стороны. Но боже меня упаси кичиться своей русскостью. И не люблю я своих соотечественников, которые считают нас лучше всех остальных. Мы не лучше, ох как не лучше, мы другие. Надо просто понять мы не хуже и не лучше, мы другие. Я хотел бы перенять многие черты характера тех же американцев, очень хорошие эти черты. Но не лезут они в меня, не уживаются внутри, хоть и хорошие, или потому, что слишком хорошие. «Бесшабашность нам гнилью дана…» − верно, Сергей, верно. И гниль я чую и бесшабашность, а как не быть, когда широко в душе и всего там намешано вдосталь. И доброты и злости в пополам. Порой увидишь старушку у магазина, зеленью торгующей, чтоб выжить и слезы на глазах от жалости, и тут же скулы сводит от злости – взял бы и убил кого-нибудь. Причем убил бы не как-нибудь легко, пулей например, а забил бы руками и ногами до смерти и горло бы перегрыз, чтоб наверняка. И как жить с этим ежедневно, ежечасно, когда оно внутри жжет как спирт и даже не засыпает, а так, затихает иногда на время. И как тут ближнего своего возлюбить, как себя, когда сам про себя столько мерзостей знаешь, что ненавидишь тихо всю жизнь. И любишь, конечно, если сильно внутри не покопаешь. Но пристегнул нам господь, как солдату, лопатку эту саперную, бьется она об бедро, напоминает все время, - копай, солдат, копай. И так порой накопает солдат, что вставит в рот ствол «калаша» и крючок дернет. Вот так вот, как-то. Как-то так.
*****
Вертолеты застрекотали над Калистогой, когда они уже вошли в церковь, а отец Владимир, не доехав до дома каких-то три мили, развернул машину и погнал обратно. Никто точно не знает, почему случаются землетрясения. Выяснили, конечно, умные мужчины-академики, что сдвигаются и раздвигаются пласты земной коры, стукаются и гремят костями подземные и подводные хребты, но пока не узнают люди первопричину появления этих самых хребтов, возникновение жизни и тайну души человеческой, будут они только бессильно наблюдать все последствия возникновения этой всякой жизни и всякой смерти.
Еще говорят, что земля – организм живой и душа живая, и мстит она людям за то, что влезают ей в тело и в душу, ковыряются там безбожно, вытаскивая наружу и кровь и мясо, и продают это все за деньги, а потом за те же деньги убивают друг друга. Может быть, все может быть. Но ведь вздрагивает во сне и младенец невинный и щенок неразумный, хоть и берегут их родители и любовью и силой. Что им снится, где бродит душа их? Отчего дрожат? Может и земля вздрагивает во сне от томлений и предчувствий нам неведомых, а мы мозгом своим беспокойным все пытаемся объяснить себе и себя успокоить. И сколько ни придумает человек приборов, чтоб заранее узнать о беде, все равно так тряхнет внезапно, что рушатся дома и гибнут люди и маленькие и взрослые, и в голос рыдают близкие.
Трясет Калифорнию давно и постоянно. Научились люди строить дома и здания сейсмоустойчивые. В Сан-Франциско, например, стоит башня «Пирамида», один из символов города. Подножие башни занимает целый квартал, а наверху острый пик, действительно пирамида. В основании фундамента, под землей, залита огромная бетонная чаша, а само здание стоит на больших шарах из сверхпрочного бетона и метала. Во время землетрясения пирамида просто елозит шарами по чаше и не рушится, а тихо катается на месте. Жилые дома, офисы и целые торговые комплексы строят из дерева. Каркас из бруса обтянут фанерой и замазан штукатуркой под камень. Если и разрушится, то насмерть никого не задавит, так немного по башке стукнет и все. Но есть и старые здания, которые строили иммигранты из Европы и России. И строили как у себя дома, прочно, каменно, без поправки на толчки снизу. И тут уж как повезет. Куда удар придется. Может только потрескаться, а может и рухнуть здание. И еще бензоколонки. Как ни укутывай бензин в метал и вату всякую, но если тряхнет напрямую цистерны баллов 7-8-9, перекорежит конструкцию, кинет искру и рванет все к чертовой матери и сгорит синим пламенем.
Там под хурмой, когда, наконец, расцепились Федя с князем, и всласть отсмеялась Ольга Николаевна Абрикосова, они еще долго сидели под деревом и молчали. Как будто все уже сказано было и все пережито. Бывает такой момент во всяком застолье, когда говорить не хочется, но люди, чувствуя неловкость, продолжают нести всякую чушь ненужную или, того хуже, анекдоты рассказывать. Тут надо либо петь всем вместе, либо молчать. Молчать – труднее всего. А вы попробуйте, как-нибудь в такой момент засечь время, минут пять-десять и просто помолчать. Не надо смотреть друг на друга, не надо что-то натужно делать. Просто помолчите каждый о своем и в какой-то момент вы поймете, что молчите вы об одном и том же. И в тот же момент вы вдруг узнаете, что вы очень близкие люди и что нет меж вами стен, и нет ничего такого, что вы бы не могли друг другу сказать, но в том и прелесть, что говорить уже не нужно, и слов таких нет ни в одном языке. И вы начинаете бессмысленно улыбаться друг другу, кладете руку на плечо, наливаете коньяк или прикуриваете сигарету. Ваши вечные спутники – гнев и зависть, дружно обнявшись, покинули вас. Не навсегда, увы. Отошли в сторону на время. Посмотреть хватит ли у вас терпения дожить до любви.
Они пили не чокаясь, как на поминках, но в отличии от поминок без тостов. Просто когда кто-нибудь хотел выпить, брал бутылку, наливал и пил. Потом Леля вынула из сумки ключ и положила на стол. Это был ключ от церкви. Князь Ванечка взял ключ, зажал его между пальцев, и, облокотившись локтем о стол, поднял его как свечу. Вместе с Федором они вопросительно и внимательно смотрели на Ольгу. Леля пожала плечами и улыбнулась:
− Вы же из-за этого остались? – полуспросила, полусказала она.
− Представляешь, Федя, − заметил князь, − а мы долгое время считали ее женщиной.
− А вы и не ошибались, я женщина, и притом замужняя. Пошли, мальчики, − Ольга встала из-за стола, вытащила из сумочки платок и умело повязала его на голове.
Они вошли в церковь, закрыли дверь и включили свет. В это время над Калистогой повис первый вертолет. В это же время отец Владимир высадил матушку Марию, велел вызвать такси и развернул свою машину. А наша троица, не сговариваясь, стала зажигать свечи и расставлять их в храме. Они ставили их везде, под всеми образами, и когда церковь вся осветилась живым огнем, выключили электрический свет. Любое помещение при свечном освещении выглядит иначе. Церковь особенно. Совсем по-другому глядят глаза святых из икон. Меняются лица, оживает одежда и природа из библейских сюжетов. Роспись купола над алтарем становится как будто рельефной. Даже ковер под ногами приобретает упругость почвы. А как оживляются черти! Ведь тут им самое место, их передовая, их фронт. В пустой церкви ни богу свечка, ни черту кочерга. Нет им работы. А человек сюда войдет сомневающийся, спасения ищущий. Вот он – кусочек лакомый! Вот он приз – душа живая! Не в доме, в церкви летала панночка. Не в поле, в церкви сожрали Хому Брута с потрохами.
Хорошо, что фривей в это время был пуст. Отец Владимир гнал машину очертя голову. Он сам до конца не понимал, почему он вдруг развернулся и помчался назад. Он никогда не слушал радио в машине и не мог слышать предупреждения о землетрясении в Калистоге. У него вдруг сдавило сердце, как тогда в сорок третьем на восточном фронте и в голове забилась только одна мысль – «назад, назад, назад…» Но тогда он не побежал, отстрелялся с испугу. А сейчас он точно знал, что не отстреляется, и надо бежать назад, даже если это смертельно опасно. Как ни странно за ним не увязалась ни одна патрульная машина. Он летел быстро и плавно, одними пальцами легко поворачивая руль, обгоняя редкие попутные машины слева и справа.
Одного русского солдата он убил точно. И убил не в бою. Расстрелял пленного. Его, шестнадцатилетнего мальчишку, единственного, любимого и балованного сына деникинского офицера, осевшего силой эмигрантской судьбы в Сербии, насильно мобилизовали немцы и волей той же неведомой судьбы оказался он единственным славянином, да еще и русским, в одной из частей вермахта упорно цеплявшейся в отступлении за, никому не нужную, деревеньку под Харьковом. Его командир, обер-лейтенант Штеркель не был откровенным нацистом, но с наукой о расовом превосходстве соглашался и славян считал расой низшей, а потому Вольдемару, как его называли в роте, не доверял. Он и приказал ему расстрелять того русского солдата, который попал в плен в последней контратаке роты. Ему уже не раз докладывали о странном поведении мальчишки, что тот, якобы стреляет только поверх голов русских, и когда в атаку бежит, орет по русски «Ура» и не стреляет совсем, но от пуль не прячется, а по ночам молится по- своему. Вроде и не трус, но все-таки не свой он, чужой. В сорок третьем, после Сталинграда, немец был уже зверь раненый и злой. Пленных не брали, особенно рядовых, добивали на месте или расстреливали показательно. В той атаке, совсем бессмысленной и никому ненужной они потеряли чуть не половину роты. Оставшиеся в живых были измотаны, ранены и злы. И вся их ненависть сконцентрировалась на двух этих русских, одного в форме вермахта, другого в советской. И один должен был убить другого, и если не убьет, то убьют обоих. Раненого русского убьют в любом случае, своего русского, если он опять выстрелит поверх головы или не выстрелит совсем. Это знали все, это знал и Владимир. Не догадывался только обреченный русский. Он стоял напротив Владимира, смотрел в такие же голубые глаза и почти не верил, что вот сейчас, через мгновение этот парень поднимет винтовку и его не станет. Он смотрел в такое же молодое, чем-то знакомое лицо и никак не мог понять, зачем этот парень станет его сейчас убивать, тоже еще молодого, еще и не жившего совсем.
«За что, господи, за что?! – беззвучно шептал Володя, - Господи, спаси и помилуй. Я не могу убить его. Но если я его не убью, то убьют меня, и его тоже все равно убьют. Все равно ведь убьют. Зачем же умирать мне?! Я не могу умереть, вот так вот… Меня мама ждет… Я не могу убить и умереть не могу, господи, спаси и помилуй, спаси и помилуй, господи… господи, Иисусе Христе…» Он машинально повинуясь приказу поднял винтовку, взвел курок еще не собираясь, не желая стрелять и выстрелил сразу, как только «Браунинг»
| Помогли сайту Праздники |