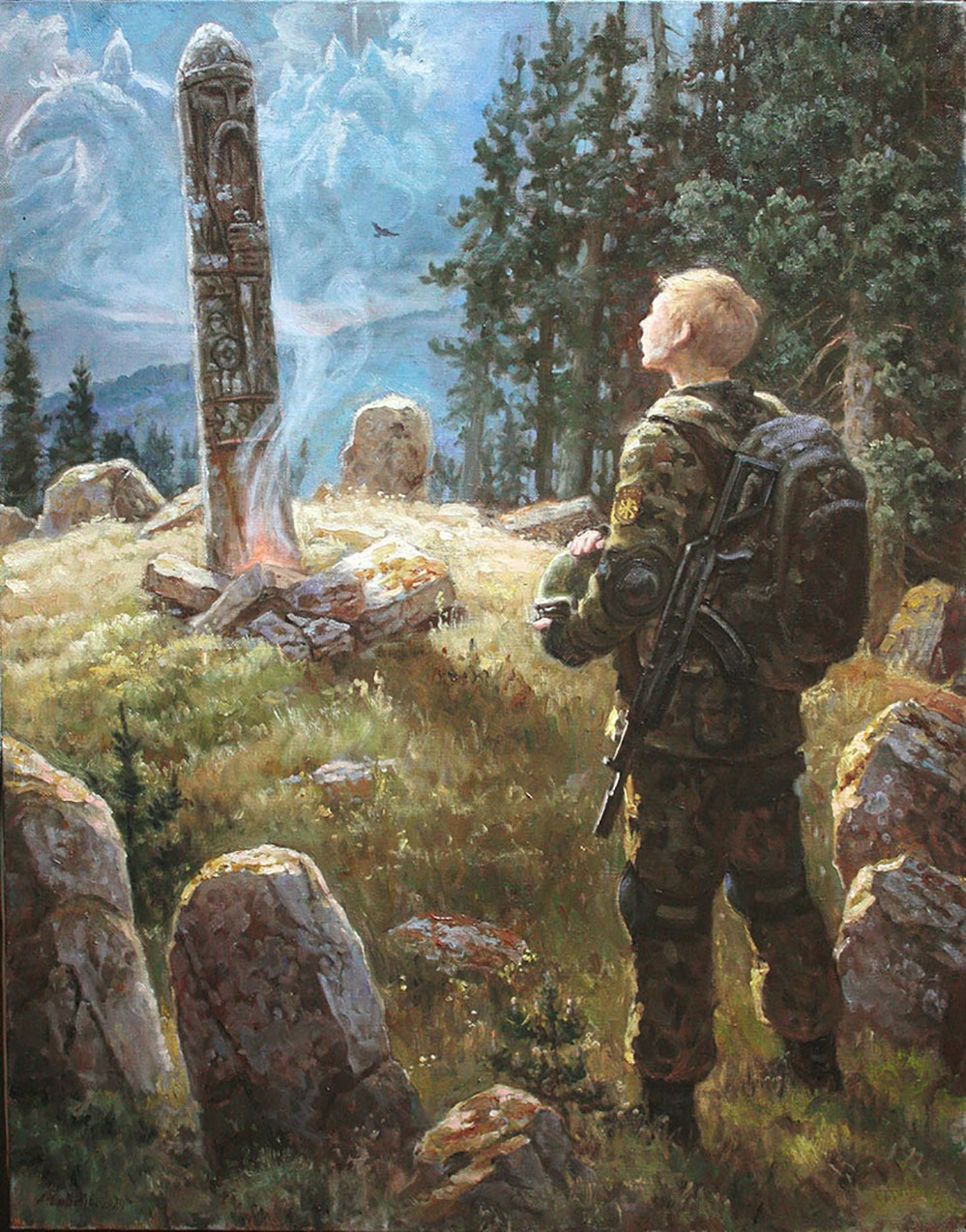Под 1322 годом хронист сообщил об опустошении крестоносцами земли русской, которую те прошли за один день. Эта земля располагалась “по левую сторону Немана на берегах Гильге”. Упоминал хронист, что прусскую крепость Рагниту будто бы осаждали какие-то русы. У Адама Бременского прусская область Самбия граничила с Польшей и Русью, но это опять не наша Русь, которая никогда не имела границы с Пруссией. А проповедник Бруно по утверждению Титмара Мерзебургского погиб как раз на границе “Прусции и Русции”. Костомаров сделал вывод, что название руси география удерживала за правым рукавом Немана, что страна на берегу этого рукава называлась Русью, а народ, обитавший в ней – руссами или русью, и что “этот народ принадлежал к литовскому племени”. Потом он ещё уточнил, что под литовской русью понимает “жмудь, жившую на берегах реки Руси” (там же, с. 9-15).
Исторических сообщений о Руси, расположенной в Прибалтике действительно найдено немало. Но нет ни единого упоминания о её связи с литовцами. И сам Костомаров ничего подобного не обнаружил, заменяя факты личным вымыслом. Среди литовских племён никому не известно племя по имени “русь” и это реальность, с которой следует считаться.
Подкрепляя свои утверждения, Костомаров принялся толковать древнерусские имена на основе литовского языка (там же, с. 15-17), однако же не смог предоставить нам литовцев, носящих такие имена. Нет их и не было никогда.
Возражение, что варяги-русь были мореходным народом, Костомаров отводит ссылкой на морские плавания жителей Пруссии (там же с. 17). Вот только пруссы и литовцы – это разные народы, а литовцы в морских плаваниях не замечены, разве что по рекам им случалось плавать.
Далее Костомаров плюнул в Ломоносова, обвинив его в ложном патриотизме (там же, с. 27). Ложном, потому что не выгодном. Если Костомаров стал бросаться обвинениями вместо того, чтобы привести научные аргументы, то это означает, что аргументов у него не было. Не в силах опровергнуть позицию Ломоносова с помощью фактов, он перешёл к шельмованию оппонента, демонстрируя неразборчивость в средствах и отсутствие человеческой порядочности. А патриотизм на самом деле нужен, без него немыслима отечественная история.
Свою версию о “литовской руси” Н.И. Костомаров отстаивал и на учёном диспуте с М.П. Погодиным. Впрочем, соперники стоили друг друга, оба они приписывали основание Руси чужеземцам. Хрен редьки не слаще. Вот, что ляпнул норманист Погодин: “На каждое положение о норманском происхождении Руси порознь можно делать возражения, но все доказательства вместе имеют особую силу и крепость” (В. Мордвинов, сост. “Публичный диспут 19 марта 1860 года о начале Руси между гг. Погодиным и Костомаровым”, СПб, 1860, с. 30). Попробуйте сложить вместе нули, ну и что получится, кроме нуля? Что касается диспута, так он в основном свёлся к упражнениям в остроумии, мало отличаясь от нынешних ток-шоу.
Литовская версия Костомарова сейчас в науке даже не рассматривается и представляет интерес лишь для историографии.
ЕВРЕЙСКАЯ ВЕРСИЯ.
Ярым сторонником пропаганды еврейских исторических заслуг (в том числе и мнимых) являлся Герман (Гирш) Маркович Барац (1835-1922). По образованию он был юристом, а по убеждению – еврейским националистом и шовинистом. В своих исторических изысканиях он видел сплошь одних евреев, любые письменные свидетельства он связывал непременно с еврейскими источниками. Конечно, русские испытывали на себе влияние соседних народов, но Барац признавал только евреев и больше никого. Дошёл даже до того, что напрочь отрицал летописные рассказы, объявляя их заимствованиями из библии. Древнерусских языческих богов Барац, ничуть не смущаясь, объявил, разумеется, семитскими божествами (ну, а кем ещё?): “… перечисленные в летописи под 980 г. языческие божества суть Вавилоно-Ассирийского, Ханаанского и Финикийского происхождения”. К их именам он тут же принялся подбирать созвучия из семитских пантеонов, совершенно не пытаясь как-то обосновывать своё словоблудие. А зачем? Все его изречения изначально являются истиной, потому что это он изрёк. Вместо реального исследования лишь пустое жонглирование словами и звуками (Г.М. Барац “Собрание трудов по вопросу о еврейском элементе в памятниках древнерусской письменности”, т. I, отд. 2, Париж, 1927, с. 561-573; его же т. II, Берлин, 1924, с. 151-155).
Используя давнюю версию, согласно которой русский народ отождествлялся с роксоланами, Барац объявил пресловутых роксолан выходцами аж из самого Ханаана, откуда они будто бы “удалились в славянские страны” ещё в незапамятные времена, a потом увеличились в своём числе, благодаря притоку выходцев из Ханаана, израильтян и иудеев. В результате сложилось “особое народное единство, приобревшее по своей численности, воинственности и культурности первенствующее значение среди окружающих народностей”. Титул правителя “Реш Гелута” (по-халдейски) или “Рош Гола” (по-еврейски) преобразовался в название роксолан, а уж оно потом сократилось до термина “русь”. Доказательства? Верьте на слово. Никто из современников не замечал в Восточной Европе огромного семитского этноса? Так Барац лучше знает. Кстати, и названия великих рек он тоже толковал из еврейского языка: Дон – от Adon (господь), Днестр – от Adon-Istar (божество Истара), Днепр от Adon Ibri (божество еврейское). Из еврейского языка он выводил Киев, Тамань, Тмутаракань, Каспийское море (его же “Собрание трудов по вопросу о еврейском элементе в памятниках древнерусской письменности”, т. II, Берлин, 1924, с. 161-173). Массу бумаги Барац извёл, пытаясь доказать недоказуемое: мол, русским следует потесниться и признать евреев коренным населением своей страны. Рассуждения настолько нелепы, что на них никто и никогда не ссылается – брезгуют. Впрочем, последователи порой находятся.
Два американских автора – Норман Голб и Омельян Прицак выпустили провокационную книжонку, не имеющую научного значения, но зато чрезвычайно выгодную для мирового сионизма. Основателями Руси они объявили хазар, а поскольку их наставниками в религии были евреи, то им и принадлежит главная честь.
Начинается книга со слёзного письма от киевских евреев к другим еврейским общинам с просьбой прислать 40 монет для выкупа своего сородича, задолжавшего кредиторам (Н. Голб, О. Прицак “Хазарско-еврейские документы X века”, Москва-Иерусалим, 1997, с. 21-31). Из этого текста следует только то, что в Киеве X века существовала еврейская община, бедная и совсем не влиятельная.
А потом без всякой логики: “В соответствии с широко распространенным взглядом, Киев был основан хазарами в VIII веке” (там же, с. 36); “Общеизвестно, что Киев управлялся хазарами до того, как был завоеван русью” (там же, с. 64). Автор первого заявления Н. Голб, а второго – О. Прицак. К чему аргументы, если есть мнение? Подобные трюки используют, когда нет доказательств, а хочется, чтобы окружающие люди поверили в этот бред. Не все же станут проверять факты, найдутся и легковерные.
Не пощадил Прицак славянское объединение полян, на земле которых стоял Киев. Из летописной фразы, утверждавшей, что поляне говорили на славянском языке, он сделал весьма странный вывод, что существовали и поляне, “которые не говорили по-славянски” (там же, с. 70). Ниоткуда такой вывод не вытекает и рассчитан он на недоумков. И дальше – поляне названы от поля, то есть от степи, а, значит, пришли непременно от хазар-иудеев. Обалдеть!
Ахмад бен Куйа был хазарским вазиром и у него, стало быть, имелся отец Куйа, который стал основателем Киева: “Поэтому ничто не мешает нам полагать, что хорезмиец Куйа, министр вооруженных сил Хазарии, послуживший прототипом Кия летописей, и был основателем (или строителем) Киевской крепости” (там же, с. 75-77). И всё это на полном серьёзе, в надежде на дебилов. Вообще-то, “ничто не мешает” нести любой вздор, но ему не место в научном издании.
Совместное творение правоверного иудея и упёртого западенца вызвало суровую отповедь от известного историка П.П. Толочко. Разбирая все утверждения, он показывает их полную несостоятельность. Нет нужды пересказывать аргументацию, лучше обратиться к первоисточнику (“Миф о хазаро-иудейском основании Киева” // П.П. Толочко “Ранняя Русь: история и археология”, СПб, 2013, с. 27-37).
КЕЛЬТСКАЯ ВЕРСИЯ.
Версию о кельтском участии в формировании Древней Руси популяризировал доктор исторических наук А.Г. Кузьмин. Он сделал вывод, что “скандинавское происхождение “варягов” не может быть обосновано данными русских летописей”. Западноевропейские источники не знают скандинавской Руси, но зато указывают на Русь у южных берегов Балтики. В западных источниках Русь именуется Russia или Ruthenia. Название этнонима произносили как раны, руйаны, руги, рутены, русцы, а Балтийское море во времена их могущества в германских официальных документах называлось “mare Rugianorum”. На основании сообщения Герхарда Меркатора, что язык рутенов “был словенский да виндальской”, историк сделал вывод о двуязычии рутенов, о том, что, наряду со славянским, они использовали и какой-то другой язык (А.Г. Кузьмин “Варяги” и “Русь” на Балтийском море” // “Вопросы истории”, №10, 1970, с. 33-46).
Вслед за А.А. Шахматовым автор утверждал, что славяне и германцы некогда были разделены племенами венетов, которых он считал кельтами. “Виндальский” язык, на котором якобы говорили рутены, А.Г. Кузьмин отнёс к кельтским языкам. Тут же автор напомнил, что “название “Рутены” носило, как известно, одно из кельтских племен, обосновавшееся задолго до н. э. <…> в южной Франции”. Рутенов (русов) он определял, как одну из ветвей венетов. Дальше автор истолковывал славянскую топонимику и славянский именослов, находя аналогии в кельтском языке, и в конце концов заявил, что варяги – это славянизированные кельты (А.Г. Кузьмин “Об этнической природе варягов” // “Вопросы истории”, №11, 1974, с. 56-83).
Приписывая венетов к кельтам, следовало бы сначала обосновать это утверждение. Галлию населяло много народов и далеко не все из них были кельтскими. Сведения, сообщённые Полибием, полностью разрушают все построения А.Г. Кузьмина:
“Странами, прилегающими к Адриатике, завладело другое очень древнее племя, называющееся венетами. В смысле нравов и одежды они мало отличаются от кельтов, но языком говорят особым. Писатели трагедий упоминают часто об этом народе и рассказывают о нем много чудес <…> будучи вызваны домой вторжением венетов в их землю, кельты заключили мир с римлянами, возвратили города и вернулись на родину” (Полибий “Всеобщая история” // “Хрестоматия по истории древнего Рима”, М., 1962, с. 34, 89-90).
Венеты вовсе не были кельтским народом, и они даже не были кельтоязычными. Венеты были древним и знаменитым народом со своим языком и своей культурой, куда древнее кельтов. Безусловно, кельты широко распространились по всей Европе и оказали влияние на многие народы, в том числе и на венетов, хотя это влияние, конечно, было взаимным. Но учителями для славян кельты точно не стали, да и не требуются учителя для объяснения славянской истории. Подобная версия не только ошибочна, она и опасна. Так, чего доброго, может
| Помогли сайту Праздники |